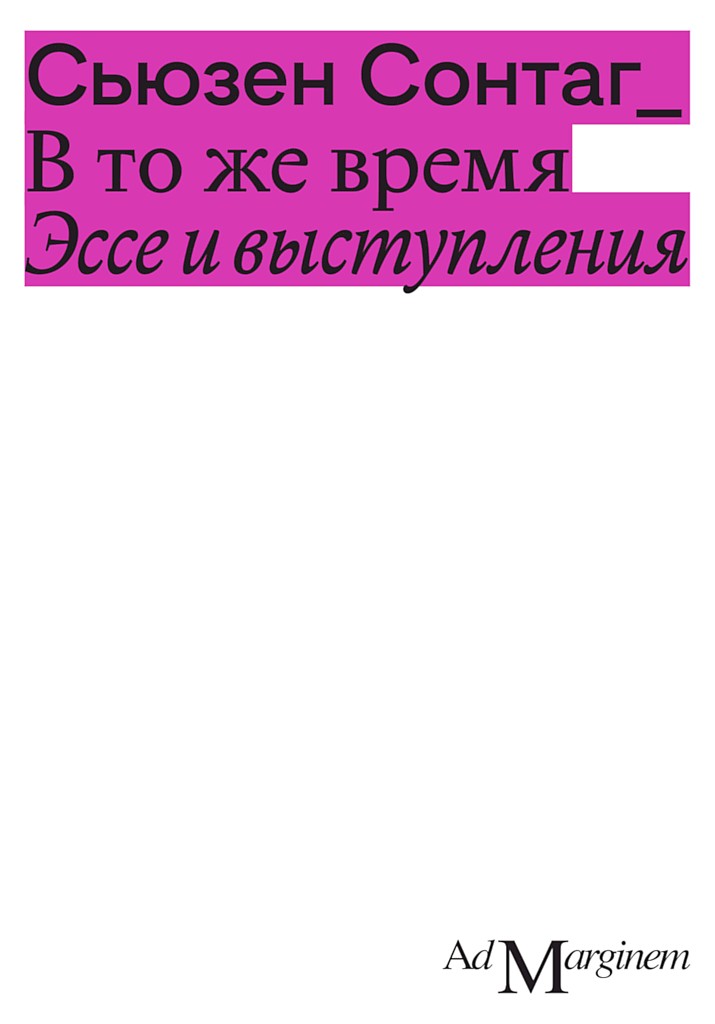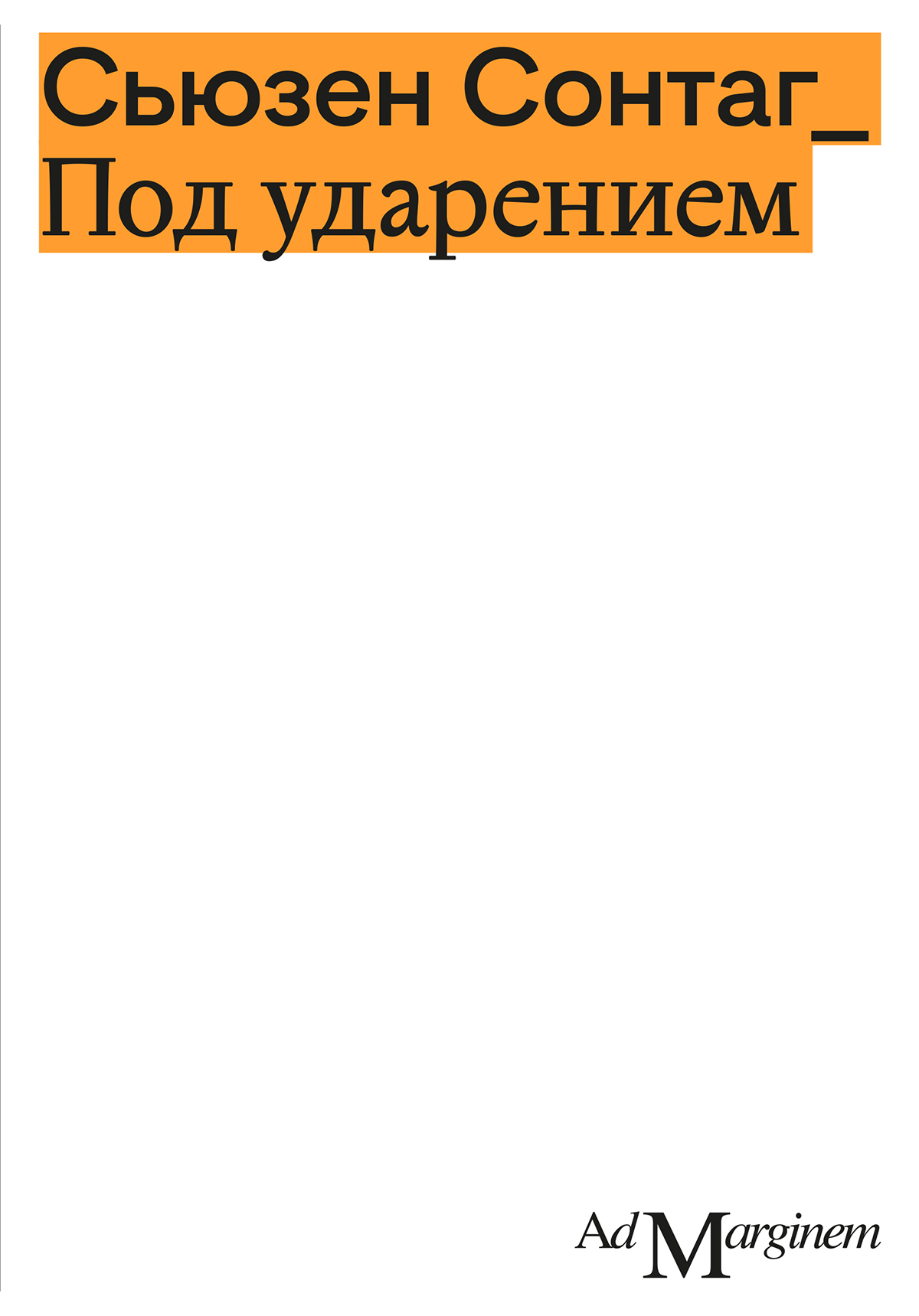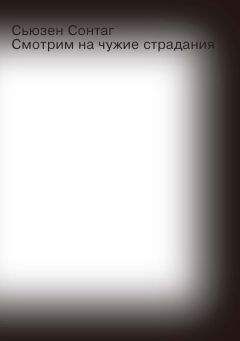времени считались свойственными исключительно поэтам.
Флобер ознаменовал поворот к «абстракции», свойственной модернистским стратегиям создания и защиты искусства, которые отвергают главенство темы. Однажды он сказал про Мадам Бовари, роман с классическим сюжетом и тематикой, что это роман о коричневом. В другой раз он сказал, что это роман… ни о чем.
Разумеется, никто в самом деле не посчитал, что Мадам Бовари — это роман о коричневом или «ни о чем». Что показательно, так это степень его писательской щепетильности, даже перфекционизма, спрятанного в этой очевидной гиперболе. Перефразируя высказывание Пикассо о Сезанне, о Флобере можно сказать так: любого серьезного писателя во Флобере привлекает не столько его достижения, сколько его беспокойство.
«Модернизм» в литературе зародился в 1850-х. Полтора века — долгое время. Многие воззрения, принципы и отказы, которые ассоциируют с «модернизмом» в литературе и других искусствах, теперь уже кажутся традиционными и даже стерильными. В некоторой степени такое восприятие оправданно. Каждое представление о литературе, каким бы взыскательным или раскрепощающим оно ни было, в конечном счете может привести к духовной косности и самоупоению.
Большинство представлений о литературе реактивны, а в руках малых талантов литература становится лишь реактивной. Но то, что происходит в современной дискуссии о романе, выходит далеко за рамки обычного процесса отказа новых талантов от старых идей во имя литературного совершенства.
Думаю, будет справедливым сказать, что в Северной Америке и Европе мы сейчас живем в период реакции. В искусстве это саркастическая реакция, направленная на достижения высокого модернизма, который воспринимается как чересчур сложное, требовательное к зрителю, недоступное (недостаточно «интуитивное») искусство. В политике это отказ от любых попыток подвергнуть общественную жизнь проверке на соответствие тому, что с презрением называют просто «идеалами».
В нашей современности призыв к возврату к реализму в искусстве обычно идет рука об руку с установлением циничного реализма в политическом дискурсе.
Самое большое оскорбление сейчас, как в искусстве, так в культуре в целом, не говоря уже о политике, — это попытки соответствовать более высоким, более требовательным стандартам, что и на левом, и на правом фланге воспринимается многими как наивное или «элитистское» (новый любимый ярлык обывателей) поведение.
Заявления о смерти романа — или, в более новой формулировке, смерти книг — стабильно звучали в дебатах о литературе весь последний век. В последнее время они достигли особой вирулентности и теоретической убедительности.
С тех пор как писатели (я в том числе) стали широко пользоваться текстовыми редакторами, всегда находятся те, кто видит для художественной литературы некое дивное новое будущее.
Рассуждают они следующим образом.
Роману в том виде, в каком мы его знаем, пришел конец. Но не нужно отчаиваться. На его место придет нечто лучшее (и более демократичное): гиперроман, который будет написан в нелинейном или непоследовательном пространстве, возможном благодаря компьютеру.
Эта модель прозы должна освободить читателя от двух столпов традиционного романа: линейного повествования и автора. Читатель, которого принуждают читать одно слово за другим, чтобы дойти до конца предложения, один абзац за другим, чтобы дойти до конца сцены, должен обрадоваться от скорой перспективы «истинной свободы» чтения с наступлением эпохи компьютера: «свободы от тирании строк». У гиперромана «нет начала; его можно читать в любом порядке; мы можем войти в него через несколько входов, ни один из которых нельзя в авторитарном порядке объявить главным». Вместо того чтобы следовать сюжету согласно замыслу автора, читатель теперь может перемещаться в «бесконечном пространстве слов» как ему захочется.
Думаю, большинство читателей — практически все читатели — удивятся, когда им скажут, что структурированное повествование, от самой базовой, традиционной схемы «начало-развитие-конец» до более сложных, нехронологических многоголосых конструкций, — на самом деле разновидность угнетения, а не источник удовольствия.
В действительности, что интересует людей в художественной прозе, так это именно история — как в сказках и детективах, так и в многослойных повествованиях Сервантеса, Достоевского, Джейн Остин, Пруста или Итало Кальвино. История — в том смысле, что события происходят в определенной логической последовательности, — это то, как мы видим мир, и то, что нас больше всего в нем интересует. Люди читают книги как минимум ради историй.
И всё же защитники гипертекста утверждают, что сюжет нас «ограничивает». Что он опротивел нам и мы жаждем свободы от вековой тирании автора, который диктует ход повествования, что мы хотим быть поистине активными читателями и иметь возможность в любой момент чтения выбрать между несколькими альтернативными развитиями сюжета или концовками путем переставления кусков текста. Как иногда говорят, гипертекст имитирует реальную жизнь с ее мириадами возможностей и удивительных исходов, то есть рекламируют его как некую высшую форму реализма.
На это я бы ответила: если свою жизнь мы действительно стремимся упорядочить и наполнить смыслом, то писать за других их романы мы совершенно не имеем желания. И один из ресурсов, который помогает нам наполнять смыслом свою жизнь, принимать решения, находить и принимать собственные стандарты, — это наш опыт взаимодействия с отдельно взятыми авторитарными голосами в великом наследии произведений, которые образовывают нас духовно и эмоционально, учат жить в этом мире, воплощают и отстаивают высокие достижения языка (таким образом расширяя наш базовый инструмент сознания), — то есть с литературой.
Еще верным будет сказать, что гипертекст или, скорее, идеология гипертекста ультрадемократична и потому прекрасно сочетается с демагогическими призывами к культурной демократии, которые сопровождают, отвлекая на себя наше внимание, неуклонно крепнущую хватку плутократического капитализма.
Эта перспектива романа будущего, у которого не будет сюжета, а точнее, будет выбранный читателем (читателями) сюжет, настолько непривлекательна, что даже если она всё-таки сбудется, то повлечет за собой не «долгожданную» смерть автора, но вымирание читателя — всех будущих читателей того, что будет называться литературой. Очевидно, эта идея могла родиться только в академических кругах литературных критиков, повсеместно охваченных настроениями, крайне враждебными к самому делу литературы.
Но в этой идее есть кое-что еще.
Заявления о том, что наступает конец книги, и в частности романа, нельзя просто списать на происки идеологии, захватившей литературные факультеты многих крупнейших университетов США, Великобритании и Западной Европы. (Не знаю, как обстоит дело в Южной Африке.) Реальная движущая сила дискурса против литературы, против книги исходит, как мне кажется, от гегемонии повествовательной модели, предложенной телевидением.
Роман — это не набор предположений, не список, не коллекция проблем и не путеводитель, открытый к дальнейшей редакции. Это само путешествие — задуманное, прожитое и завершенное.
Завершение не означает, что сказано всё. Генри Джеймс, когда заканчивал один из своих лучших романов, Женский портрет, доверил своему дневнику опасение, что читатели сочтут его роман неполным, что он «не проследовал за героиней до разрешения ее ситуации». (Как вы помните,