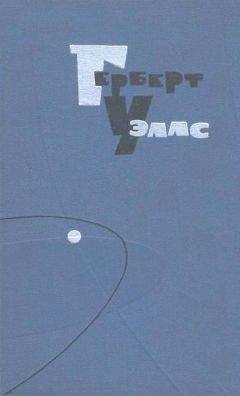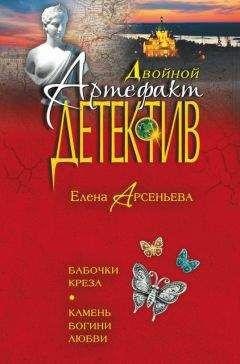Вдохновение художника так свободно, что сам он не может повелевать им, но повинуется ему, ибо оно в нем, но не от него. Он не может выбирать тем для своих созданий, ибо без его ведома возникают в душе его таинственные явления, которые показывает он потом на диво миру. Он творит не когда хочет, но когда может; он ждет минуты вдохновения, но не приводит ее по воле своей, и потому-то,
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех, ничтожней он,
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется —
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел;
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
……На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…{7} —
Менцель поставляет Гёте в великую вину и тяжкое преступление, что он молчал во время французской революции и ни одним стихом не выразил своего мнения об этом событии, потрясшем весь мир. В самом деле, великое преступление! Так точно, в одном русском журнале, кто-то ставил Пушкину в вину, что он, воротясь из-за Кавказа, где был свидетелем славы русского оружия, напечатал VII главу «Онегина», а не собрание «торжественных од»: подлинно – les beaux esprits se rencontrent!..{8}. И какая легкая, удобопонятная пиитика: во время революции поэт непременно должен или хвалить, или хулить ее в своих стихах, а во время войны – прославлять подвиги соотечественников!.. И как для «менцелей» понятно, что Пушкин, возвратясь с Кавказа, привез с собою «Кавказского пленника», и как не попятно для них, что Грибоедов с того же Кавказа привез «Горе от ума» – злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество… Бедные люди!..
Каждое слово Гёте принималось как изречение оракула; но он никогда не начинал речи, чтобы напомнить германцам о народной их чести либо чтобы одушевить их на какой-нибудь благородный помысл или подвиг. Равнодушно пропускал он мимо себя события всемирной истории или только сердился, что военные тревоги подчас нарушали сладкие минуты поэтических его наслаждений. До французской революции дремала Германия. Это грозное событие пробудило наше отечество ужасным образом. Какие чувствования должно было оно породить в сердце первого нашего поэта? Новая эра возбудила восторг в Шиллере; Гёррес, сгорая стыдом от измены отчизне и от глубокого ее унижения, напоминал соотечественникам про прежнюю честь и прошлое величие Германии. Что же сделал Гёте? Написал несколько легкомысленных комедий. Потом явился Наполеон. Что должен был думать о нем, сказать про него первый германский поэт? Он должен был, как Арндт и Кернер, проклинать губителя своей отчизны и сделаться главою союза добродетели, или, ежели по привычке немцев он был больше космополит, чем патриот, то по крайней мере, как Байрон, должен бы уразуметь глубоко трагическое значение великого героя и его дивной судьбы (ч. II, стр. 408–409).
Сколько лжей и пошлостей в немногих словах этой ограниченной немецкой головы! У каждого народа необходимо две стороны: действительная, сущная, и, как конечное ее отражение, пошлая и смешная; поэтому и немцев можно разделить на германцев, каковы: Лессинг, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шиллер и Гёте, и на немцев, каковы: Клаурен, Коцебу, Август Лафонтен, Фан дер Фельде, Баумейстер, Круг, Бахман и пр. К этим-то достопочтенным и достолюбезным немцам-филистерам, от которых попахивает кнастером и пивом, принадлежит и наш сердитый господин Менцель. Спросите его, с чего он взял, что Гёте равнодушно пропускал события всемирной истории? Неужели какая-нибудь кумушка-старушка, которая с своими соседками день и ночь колотила языком по зубам, толкуя о реляциях наполеоновских походов и побед, или какой-нибудь фельетонист по копейке со строки, надсаживавший себе грудь громкими фразами о том же предмете, неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великие события, нежели великий поэт, который, по словам самого Менделя, был полнейшим отражением, вернейшим зеркалом своего великого века? Кто сказал ему, что Гёте не останавливался в безмолвном созерцании, полном любви, мысли и благоговения, перед таинственными судьбами, в таком величии совершавшимися в его глазах, он, в котором все жило и который во всем жил, который все в себе ощущал и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармонического органа мировой жизни?..
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна!{9}
Неужели из того, что Гёте не воспевал великих современных событий, следует, чтобы они не касались его, что он не чувствовал их? Разве Гомер в своей «Илиаде» воспел современное ему событие, а не за два столетия до него совершившееся? Разве Шекспир в своих драмах представил тоже современный ему мир? Помилуйте, господа менцели, только какой-нибудь школьник с тетрадкою в руке, какой-нибудь Сен-Жюст мог расписать по месяцеслову вдохновение поэта, заставив его в апреле воспевать дружбу, в мае любовь, в июне брак, а в июле добродетель!.. Мы этим отнюдь не хотим сказать, чтобы поэту нельзя было отзываться песнею на современные события; нет, это значило бы впасть в противоположную крайность, а каждая крайность есть нелепость, плод ограниченности ума и мелкости духа. Вдохновение не справляется с календарем. Оно часто молчит, когда все ожидают его. Но мы, однако, думаем, что поэт всего менее способен отзываться на современность, которая для него есть начало без середины и конца, явление без полноты и целости, закрытое туманом страстей, предубеждений и пристрастия партий, и потому его вдохновение больше любит жить в веках минувших и пробуждать исполинские тени Ахиллов и Гекторов, Ричардов и Генрихов, или из недр собственного духа воспроизводить свои гигантские образы, каковы – Гамлет, Макбет, Отелло… Менцель говорит, что новая эра, начатая французскою революциею, пробудила восторг в Шиллере: зачем же он так бессовестно умолчал, что если Шиллер с восторгом приветствовал начало французской революции, то с отвращением смотрел на ее продолжение и конец и с негодованием отвергнул диплом на гражданина Французской республики, который предлагал ему Конвент за его трагедию «Фиеско»{10}, очень плохонькое твореньице в художественном отношении?.. Или рассказать факт в половину иногда необходимо, чтобы поддержать ложь?.. И как понятно, что Гёте не мог поступить подобно Шиллеру, ибо Гёте был гений несравненно высший, гений чисто художнический, а потому неспособный увлекаться никакими односторонностями, но обнимавший все в оконченной целости, на все смотревший не снизу вверх, а сверху вниз. Вся цель стремлений самого Шиллера была – достигнуть мирообъемлющей объективности Гёте; только при конце своего поприща он более или менее достиг этого, и оттого последние его произведения и выше и глубже, чем произведения его юности, полной пожирающего пламени, а вместе с ним и дыма, и чада, и угара… Что могло делать честь Шиллеру, то унизило бы Гёте. С чего взял господин Мендель, что Гёте должен был, подобно господам Арндту и Кернеру, проклинать Наполеона, как губителя своей отчизны?.. Это еще что за новость?.. Когда Менцель заставляет Гёте подражать Шиллеру – в этом еще есть немножко смысла, потому что Шиллер все-таки был великий дух, если не такой же художник; но заставлять орла делать то, что делали комары?.. Для выполнения временных требований и целей какой-нибудь ограниченной эпохи есть маленькие-великие люди, есть Арндты и Кернеры, а у истинно великих людей, исполинов человечества – другое время и другие цели – мир и вечность… С чего взял Менцель, что Гёте должен был сделаться главою Тугендбунда, составившегося из школьников и духовно малолетных детей и смешного для людей взрослых и возмужавших духом?..
Все это показывает только, что Менцель не понимает ни значения, ни сущности искусства, а, взявшись говорить о том, чего не смыслишь, невольно будешь говорить вздор; если же к этому присоединится дух партии и оскорбленное самолюбие, то вместо истины будешь изрыгать ругательства и проклятия… Из всего этого видно одно: Менцель зол на Гёте за то, что тот не хотел быть ни крикуном, ни начальником какой-либо политической партии, что он не требовал невозможного сплочения Раздробленной Германии в одно политическое тело. У гения всегда есть инстинкт истины и действительности: что есть, то Для него разумно, необходимо и действительно, а что разумно, необходимо и действительно, то только и есть: Поэтому Гёте не требовал и не желал невозможного, но любил наслаждаться необходимо сущим. Для него необходимость раздробленности Германии была таким же убеждением и такою же верою, как у Пушкина было убеждение и вера, что не русское море иссякнет, а «славянские ручьи сольются в русском море». Только какой-нибудь Мицкевич может заключиться в ограниченное чувство политической ненависти и оставить поэтические создания для рифмованных памфлетов{11}; но это-то и достаточно намекает на «мировое величие» его поэтического гения: Менцель верно на коленях перед ним, а это самая злая и ругательная критика для поэта.