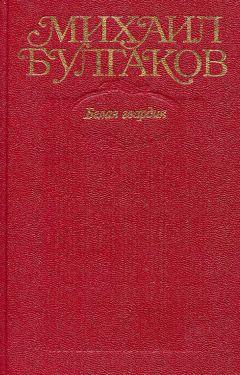Неверно, однако, считать, что рассказы и фельетоны Булгакова начала 20-х годов означали лишь погубленное время, досадное отвлечение от важных художественных трудов.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
То, что подмечено Ахматовой,— не исключение, а скорее закон: извлечение новой поэзии не из обработанного традицией образца, а из неприглядной прозы жизни, сора будней, мгновений дня. И, окунувшись во впечатления репортера и газетчика, уйдя с головой в будни «красной столицы», Булгаков, как наблюдательный художник, немало извлек для себя. Не только зоркость на подробности, чуткость ко всему живописному и странному обогащают его перо. Сам принцип повествования, способ рассказа определяется в эти годы. И дело не в темах («Мадмазель Жанна», «Говорящая собака»), которые аукнутся в его главном романе. В стиле «Мастера и Маргариты» и «Записок покойника» будет присутствовать, но только в очищенном и сублимированном виде, эта «сиюминутность» впечатления, иллюзия репортажа с места, мнимая импровизационность фельетона. Так же как в лучших пьесах Булгакова взамен готовой театральности зазвучит «нескладная» живая речь, появится вдохновенная легкость репетиции, почти «капустника».
Очищенная от штампа и пошлости стремительная «газетность» речи убивала велеречивую книжность и вошла как важная краска в обаяние языка Булгакова. Живые восклицания, словечки улицы и коммунальной квартиры не роняли достоинства слога. Впрыснув в язык фермент жизни, Булгаков как бы включал просторечие в литературный поток, оставаясь как автор на некоторой дистанции. Выделенные своей новизной и непривычностью, ходовые речения и домашние словечки становились объектом иронического созерцания, придавая вместе с тем оттенок антикнижности авторской речи.
Другой эксперимент, важный ему в дальнейшем, Булгаков произвел в «Записках на манжетах» — вещи почти дневниковой, плотно прилегающей к биографии. Вступая в литературу, Булгаков не имел опыта, но имел достаточно вкуса, чтобы понять: прежде чем выдумывать, надо научиться писать натуру, как пишет ее в мастерской художник. Иначе сказать, надо уметь передать то, что пережил сам. К «Запискам на манжетах» примыкали или являлись осколками полного их текста, не дошедшего до нас, автобиографические рассказы «Богема» и «Необыкновенные приключения доктора». (Напротив, «Ханский огонь» (1923) был школой чистого вымысла.)
Что имел в виду Булгаков, придвигая художественное зеркало вплотную к своей судьбе? Запечатлеть себя? Нет, он рисовал время. Интуиция художника подсказала ему, что опыт его неоценим, потому что он живет во время разломное, коренное для эпохи, историческое в своих ускользающих мгновеньях, и каждая подробность может стать интересной или, по меньшей мере, заслуживает того, чтобы быть отмеченной и осмысленной.
На таком фундаменте можно было строить. Золотым запасом жизненных впечатлений Булгакова стала гражданская война. В очерке «Киев-город» (1923) он задумается о «новом, настоящем Льве Толстом», который, явившись на землю лет через пятьдесят, напишет «изумительную книгу о великих боях в Киеве». Впрочем, сотрудник «Гудка» и «Накануне» уже знает, что никому не станет передоверять эту честь. Главное, чем он войдет в литературу 20-х годов, будет создаваемый им исподволь, по ночам, роман «Белая гвардия» и возникшая на его основе пьеса «Дни Турбиных».
5
Как всякий большой писатель, Булгаков создает свой мир. Этот мир не обнимает весь горизонт его современности. Он у́же, теснее — или, точнее сказать, дан в своей оптике: освещает по-своему окрашенным сильным лучом фрагмент действительности, а не заливает ровным рассеянным светом все обозримое пространство. Но то, что он высветил, что легло в эту яркую прожекторную полосу, запоминается на всю жизнь. «Писатель одной темы и одной идеи — белого движения…» — писала в очередной обличавшей Булгакова статье в 1928 году «Комсомольская правда» (13 декабря). Определение близорукое и для всего созданного Булгаковым слишком узкое, но исходную для писателя тему отмечает верно.
Почувствовав в себе созревшую силу, Булгаков ставит перед собой задачу выше себя, с нею движется и растет. Эта задача — картина гражданской войны, которая, по его замыслу, должна быть не только написана в традициях «Войны и мира», но и по размаху ориентироваться на толстовскую эпопею.
Пока Булгаков не остыл от этой книги, он считал ее самой важной в своей судьбе, говорил, что от этого романа «небу станет жарко»,— а спустя годы в разговоре со своим биографом П. С. Поповым признал роман «неудавшимся». Быть может, это надо понимать не столько как неудовлетворенность написанным, сколько в том смысле, что грезившейся автору эпопеи не получилось. Вместо грандиозной панорамной фрески возник один, правда важный и яркий, ее фрагмент — 1918 год в Киеве. Журнал «Россия», печатавший в 1925 году роман (№ 4—5), закрылся, не завершив печатания даже той части, которая могла стать первой книгой эпопеи. Дальше, возможно, предполагалось захватить события гражданской войны на Юге, продлить судьбы героев [11].
В «Белой гвардии» есть попытка выйти за пределы своего (или близкого своему) опыта и начертать сцены пером историческим (к примеру, парад войск Петлюры у святой Софии или бегство гетмана из дворца). Но особое обаяние роману сообщает его романтический личный тон, тон воспоминания и одновременно присутствия, как бывает в счастливом и тревожном сне. Книга подобна стону уставшего от войны, ее бессмыслицы, нахолодавшегося и наголодавшегося, измученного бездомьем человека.
Дом и Город — два главных неодушевленных героя книги. Впрочем, почему неодушевленных? Дом Турбиных на Алексеевском спуске, изображенный со всеми чертами семейной идиллии, перечеркнутой крест-накрест войной, живет, дышит, страдает, как живое существо. Будто чувствуешь тепло от изразцов печи, когда на улице мороз, слышишь башенный бой часов в столовой, бренчанье гитары и знакомые милые голоса Николки, Елены, Алексея, их шумных, веселых гостей… И Город — безмерно красивый на своих холмах даже зимой, заснеженный и залитый вечерами электричеством. Вечный Город, истерзанный обстрелами, уличными боями, опозоренный толпами чужих солдат, временщиками, захватившими его площади и улицы.
Булгаков — воинствующий архаист в своих пристрастиях, и патриархальность, теплая и мирная, служит ему опорой. В 1917 году он писал сестре Надежде Афанасьевне из Вязьмы, что, получив возможность вечерами читать и размышлять, он упивается в книгах старых авторов «картинами старого времени». «Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад» [12]. А ведь, когда писались эти строки, главные сужденные ему испытания были еще впереди.
Булгаков был привержен прошлому, непрерванной традиции как черте «мирной жизни». Это сказывалось, как вспоминают современники, даже в личном обиходе: вкусах, одежде (обожал фрак, рубашки с манжетами, запонки, одно время носил монокль), манерах, старомодном «да-с» и «извольте-с». Существеннее, что то же относилось и к традиции литературной. Правда, в его первом романе можно обнаружить и следы близких влияний — Андрея Белого и Ремизова, символистской прозы и романтического «модерна» конца века (наглядны, в частности, переклички с романом «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича). Но все это с лихвою перекрывается мощным излучением традиции, воспринятой непосредственно от русского XIX века: Пушкина с «Капитанской дочкой», Гоголя с украинскими повестями, Достоевского с «Бесами» и «Братьями Карамазовыми», Чехова с его пьесами, не говоря уж о постоянной оглядке на эпический мир создателя Наташи Ростовой.
И все же первенец Булгакова — нечто до того подлинное, обаятельное и самобытное, что, при всей незаконченности и влияниях, видится как цельнорожденный, сверкающий своими гранями природный кристалл.
Максимилиан Волошин, одним из первых разглядевший дар Булгакова, отметил, что его литературный дебют можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского. Волошин же дал «Белой гвардии» емкое определение, сказав, что ее автор воплотил в своем романе «душу русской усобицы».
В отличие от очерка или фельетона, роман нельзя было писать без широкого осознанного взгляда, того, что называлось миросозерцанием, и Булгаков показал, что оно у него есть. Автор избегает в своей книге, во всяком случае в той части, какая была закончена, прямого противостояния красных и белых. На страницах романа белые воюют с петлюровцами. Но писателя занимает более широкая гуманистическая мысль — или, скорее, мысль-чувство: ужас братоубийственной войны, ее стихийный мо́рок. С печалью и сожалением наблюдает он отчаянную борьбу нескольких враждующих стихий и ни одной не сочувствует до конца.