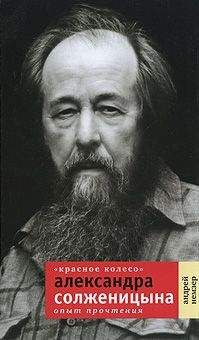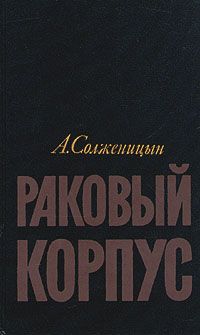Ознакомительная версия.
Разбираемый эпизод открывает, однако, наряду с «краткосрочной» (рамки Первого Узла) и «общей» (рамки замысленного и в итоге контурно намеченного повествования) перспективами и еще одну – так сказать, «среднесрочную». Это «личный» сюжет Воротынцева (болезненно, но крепко сцепленный с сюжетом его служения, а стало быть, и с общим – историей национальной катастрофы, которую полковник, как и прочие персонажи, не смог одолеть), развивающийся в пространстве четырех завершенных Узлов. Мысли Воротынцева о былой вине перед женой и намеком представленные надежды на светлое послевоенное будущее (их можно соотнести с прожектами Романа Томчака о совместном с женой путешествии по ее «заветному маршруту» – 9) вводятся в текст после того, как мы узнали о наметившемся в семье полковника тихом разладе, который придал легкости его отъезду на войну (13), после вещего сна в Уздау, в котором Воротынцев обретает свою будущую любовь («о н а! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!») и осознает жену «помехой» (25). Читателю (если он не забыл 13-ю и 25-ю главы!) дается сигнал: семейного счастья у Воротынцева не будет.
О том, что же будет в личной жизни полковника, «Август Четырнадцатого» умалчивает. Лишь в следующем Узле (О-16: 21–29) мы (вместе с героем) медленно распознаем в неведомой и безымянной женщине, которая приснилась Воротынцеву в Уздау, Ольду Андозерскую, появляющуюся на страницах «Августа» лишь однажды и вовсе не в «воротынцевском» контексте (75).[6]
Сходным образом в рамках «Августа» читатель не может осознать всю значимость скрещения лаженицынской и томчаковской линий в самом начале Узла. Проезжая мимо экономии, Саня замечает:
…на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в беспечном белом, нетрудовом.
Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.
(2)
Саня Лаженицын увидел Ирину Томчак, которая «перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд…» (3). При первом чтении мы можем оценить лишь эффект монтажа, мотивирующего переход от одного персонажа к другим, но и намека на будущую, произошедшую в Четвертом Узле судьбоносную встречу Сани Лаженицына и Ксении Томчак (А-17: 91) здесь нет. Аккуратный сигнал подан только в пояснениях к Первому Узлу: «Отец автора выведен почти под собственным именем, а семья матери доподлинно». Герои, даже обретя друг друга, не узнают об этом опосредованном соприкосновении – они могут только вдвоем его «домыслить» и осознать символичность этой «случайности» (такие намеки в тексте «Апреля…» есть и будут ниже рассмотрены). Саня видит не свою суженую, а жену ее брата, с которой действительно не встретится. (Понятно, что речь идет о персонажах, а не об их прототипах.)
Здесь (как отчасти и в истории Воротынцева и Андозерской) Солженицын тонко корректирует глубоко традиционные принципы романного сюжетосложения, замечательно явленные в «Войне и мире». В книге Толстого постоянно происходят «случайные» встречи (спасение княжны Марьи Николаем Ростовым от взбунтовавшихся богучаровцев; князь Андрей, видящий после Бородинского сражения тяжело раненного Анатоля Курагина; князь Андрей, оказывающийся в одном обозе с Ростовыми по оставлении Москвы; освобождение Пьера из плена отрядом Денисова и Долохова, совпадающее с гибелью Пети Ростова), символический смысл которых автором не педалируется, но и не утаивается. Толстому важно создать картину хаотического движения персонажей, но не менее важно обнаружить тайную логику, строящую их судьбы (и общую судьбу людского рода). Противоборство этих авторских устремлений приметно в эпизоде первой встречи Пьера и Наташи, случившейся в тот же день (чуть раньше), что и превращение незаконного сына, человека без состояния, статуса и определенных жизненных планов в богача и графа Безухова. Обычно читатель фиксирует лишь контраст праздника у Ростовых и агонии старого Безухова, всеобщей взаимной доброжелательности на балу и борьбы (войны) за портфель с завещанием. О том, что именно в точке внешнего поворота Пьер увидел (но еще не угадал) свою истинную жену, помнят реже. И еще реже – о том, что встреча произошла в Натальин день (именины графини Ростовой и ее младшей дочери), то есть в день будущего Бородинского сражения, в котором участвуют как «ложные» претенденты на руку Наташи (Борис Друбецкой, Денисов, Анатоль Курагин, Андрей Болконский), так и тот, кому она предназначена. Скрытость символики не отменяет ее весомости. В «мире» Толстого «случайностей» на самом деле нет (потому автор и может прийти на выручку любимым героям: смерть Элен оказывается и воздаянием за ее грехи, и необходимым условием для земного воплощения прежде свершившегося на небесах брака Наташи и Пьера). Эта тенденция еще более настойчиво проводится в «Докторе Живаго», последовательно строящемся на «скрещеньях» судеб: если иные персонажи не понимают, что с ними происходит, не распознают в новых знакомцах знакомцев старых, просто не замечают друг друга, то об этом прямо напоминает автор.[7]
Мир, изображаемый Солженицыным в «Красном Колесе», менее «плотен». Встречи героев далеко не всегда «отыгрываются» в их дальнейших судьбах или даже предполагают встречи новые. Укажем, например, на краткие соприкосновения Харитонова и Чернеги (19), Нечволодова и Смысловского (20–21), курсисток и Андозерской (75); после совместного выхода из окружения расходятся пути Воротынцева, Благодарёва, Харитонова и Ленартовича, хотя все четверо будут появляться на страницах следующих Узлов. Герои Солженицына часто не знают о своем сюжетном «соседстве», о том, что у них есть общие знакомые; их судьбы не перекрещиваются, но мягко, иногда – опосредованно, соприкасаются. Так выстраиваются цепи, неведомые персонажам, но ощутимые читателю: например, Воротынцев – Ленартович – Вероня и Ликоня – Андозерская; или Воротынцев – Харитонов – Ксенья Томчак; или Воротынцев – Благодарёв – Саня Лаженицын, во взводе которого окажется (уже во Втором Узле) Арсений, перешедший по протекции Воротынцева в артиллерию. Эта неосведомленность персонажей о былых «почти встречах» (или незамеченных встречах?) иронически запечатлена в шутливой перебранке Чернеги и Благодарёва, касающейся как раз событий «Августа…»: Чернега спрашивает:
…Если ты там был, в самсоновском окружении, – почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?
– Так и я же вас не видел, – осклабился Благодарёв посмелей. – Сколько прошли – а вас не видали. Вы-то – были, что ль?
(О-16: 4)
Видели обоих (и, конечно, не только их) автор и читатель. Ограниченность знания всякого отдельного персонажа указывает на неохватный масштаб случившихся событий (и тем более – жизни вообще); тайная «зарифмованность» судеб – на смысловое единство исторического процесса, человеческого бытия. Мир одновременно огромен и предельно мал. Совсем не случайно Смысловский «под звездами» размышляет о постоянной угрозе гибели Земли и человечества по «естественным» – или все же, если отрешиться от точки зрения персонажа, мистическим? – причинам, при свете которых «мелочами» видятся военные и революционные катаклизмы (21).
Многогеройность повествования Солженицына, не раз оговоренные писателем установки на изображение всякого персонажа как «главного» (в рамках соответствующего эпизода) и отказ от традиционного романного протагониста, безусловно, развивают и усиливают повествовательную стратегию Толстого. В «Войне и мире» мы тоже перемещаемся от героя к герою и, находясь в смысловом пространстве, например, Николая Ростова, воспринимаем его как «равного» остальным значительным персонажам (о которых можем на время забыть). Это иногда распространяется и на персонажей эпизодических (вспомним, например, эпизоды посещения Алпатычем оставляемого Смоленска или встречи Лаврушки с Наполеоном, в которых лица, чей сюжетный вес минимален, описаны – не только извне, но и изнутри – с тем же тщанием, что и избранники автора). Различить в Пьере Безухове «главного героя» гораздо труднее, чем, скажем, в Гриневе, Печорине или князе Мышкине. Однако от того Пьер не утрачивает своего особого статуса. Он единственный герой, который проходит сквозь весь роман (буквально от первой сцены, в салоне Анны Павловны Шерер, до последней, сна Николеньки Болконского, которым завершается первая, «сюжетная», часть эпилога). Личность и жизненные блуждания Пьера «сопрягают» три несхожих семьи (Болконских, Ростовых, Курагиных), за судьбами членов которых следит Толстой. Пьер, человек подчеркнуто «мирный» (и тем противопоставленный абсолютному большинству остальных персонажей-мужчин, профессиональных военных), оказывается в самой гуще войны (Бородинское сражение, занятая французами Москва, плен). Наконец, именно он приобщается к бытию и сознанию народа: общение Пьера с Платоном Каратаевым обладает куда большей значимостью (и для самого героя, и для автора и читателя), чем привычные контакты персонажей-офицеров с «нижними чинами».
Ознакомительная версия.