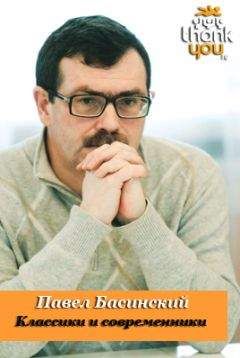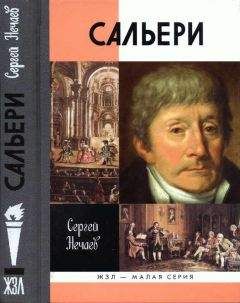— Волга… м-да… Широкая… м-да… И душа наша русская широкая… м-да… И проза наша широкая… м-да…
Павлов развел руками, что показать, какая она, наша проза, и я понял, что она действительно широкая… м-да!
Я прочитал в «Общей газете» суждение о новом романе Олега Павлова «Дело Матюшина»: «дрянь, рвань и пьянь Олега Павлова». Его и раньше обвиняли в недостатке романтизма, светлого взгляда на мир и людей. И наконец, я прочел отзыв критика Андрея Василевского где два раза прозвучали слова: «Ужасы армейской жизни… Ужасы армейской жизни…»
Наша критика всегда предпочитала скользить по наезженной колее, а не тропить свои лыжни, даже, положим, и не согласуясь с авторской волей. Новая вещь Олега Павлова помещена в тот контекст, где работать с ней наиболее просто: в контекст прозы Габышева, Каледина и отчасти Терехова (соответственно: «Одлян, или Воздух свободы», «Стройбат» и «Зяма»). Критика обратила внимание на тему и не заметила Темы.
Странная все-таки фигура — Олег Павлов. С того времени, как на него бросили благосклонный взгляд Астафьев и Владимов, путевка на литературный Олимп была ему обеспечена. С «Казенной сказкой» даже несколько носились, расточая молодому автору порой чрезмерные похвалы. Дебют, дебют, дебют… — звенели на разные голоса. И не вспоминали (а может и не знали) о том, что до «Казенной сказки» Павлов напечатал в «Огоньке», «Согласии», «Литературном обозрении» и каком-то совсем неведомом белорусском журнале два цикла превосходных рассказов: «Караульные элегии» и «Записки из-под сапога», в самих названиях которых чувствуется совсем не дебютантская хватка.
На этих рассказах, словно на тщательно подготовленной почве, и выросла «Казенная сказка», в которой автор со своим счастливо найденным героем — капитаном Хабаровым — сумел прорастить до «глубоко продуманного символа» все то, что старательно высевалось им в «Элегиях» и «Записках». Это образ русского человека, способного организовать русский хаос, соединить его разрозненные части, которые в вечной обиде, вечной вражде, вечном непонимании (это страшное впечатление навевали рассказы Павлова), но и вечном стремлении к органическому единству, к тому, что называется на высоком языке человеческим братством.
Персонажи Павлова — это рассорившиеся и разодравшиеся в кровь «братишки», и необходим какой-то человек, какая-то очень сильная личность, и непременно из своих же, из «братишек», а не из «варягов», что пристыдит «озорников» и скажет словами девочки из «Жизни Клима Самгина»:
— Да что вы озорничаете-то…
Такой человек нашелся в лице Хабарова — личности светлой, романтической (такой, какой хочет критик из «Общей газеты»). Но ведь неслучайно все отметили «максим максимыческий» характер этого героя, и недаром повесть называлась «сказкой». Я боюсь, что критике и пришелся по душе сказочный, почти лубочный образ капитана — какая же русская армия без штабс-капитана? Павлов стоял на пороге открытия, от которого, тем не менее, отказался. Он мог стать довольно классным творцом современного армейского лубка, и это непременно оценили бы: здесь бездна возможностей игры на фольклорных струнах, на лесковском сказе, а кроме того — это замечательно ложится на те фиктивные поиски национальной идеи, которыми нынче озабочена изолгавшаяся и проворовавшаяся отечественная власть.
Но недаром автор своего Хабарова закатал в бочку для капусты. Метафора прозрачная и убийственно ироничная: из бочки, словно из кокона, должен выйти «прекрасный князь». Да вот не князь вышел, а майор Матюшин, отец Василия Матюшина. Павлов бросает перспективные фольклорные мотивы, бросает все эти игры в ХIХ век, в максим максимычей, и печатает роман, название которого странно напоминает о забытом почти «Деле Артамоновых» М. Горького.
Честно говоря, мне многое непонятно в романе Павлова (с «Казенной сказкой» все было более или менее ясно). Прежде всего непонятен принцип, на котором строится эта вещь. В романе, насколько я понимаю, главный герой должен находиться в контрах с обстоятельствами — в противном случае это не роман, но модернистское псевдороманное образование типа «романов» Лапутина, Бородыни, Нарбиковой и проч. В этом смысле «Казенная сказка» была куда более романом.
Смысловым центром новой вещи является Василий Матюшин — солдат срочной службы в конвойных войсках где-то на азиатском юге России. Его сначала «опускают», заставляя чистить сортир и следить за зоновскими собаками, потом принуждают торговать водкой для зеков (образ начальника-китайца, впрочем, великолепен; он показан не внешне, но только через разговор, и словно насмешливо перемигивается с теми красными китайцами, что расстреливали наших священников не от природной жестокости, а просто не понимая, почему русские отказываются стрелять в этих дядей с крестами и бородой). Настоящим же «делом» Матюшина становится убийство зека, которое он совершает без всякого страха, словно стреляет по мишени. Этим «делом» Матюшин как бы избывает свою «опущенность». Его демобилизуют, он едет хоронить отца в родной Ейск. На протяжении всего романа Матюшин оказывается заложником разнородных сил: тяжелого характера отца, словно вымещающего на сыновьях свое сиротское прошлое, животной любви матери, воплотившей в сыне образ единственного дорогого ей мужчины, жестокости старшего брата, мстящего за недостаток материнской любви, армейского беспредела и, наконец, непонятной отеческой доброты старшины Помогалова, спасающего Матюшина от почти неизбежной гибели.
Героя романа вроде не получается. И вообще не получается героя. Но есть в новой прозе Павлова нечто более ценное: грандиозное впечатление здешнего пространства, на котором разыгрываются последние сцены исторической драмы России в ХХ столетии. Первое ощущение: необыкновенной тесноты. Читая роман, хочется воскликнуть: «Боже, как тесна Россия!» Отчего люди, владеющие таким грандиозным пространством, только и бьются на пространствах бесконечно малых: тесном вагоне, тесном бараке, тесной бане? Сцена солдатского мытья в бане — несомненно одна из самых мощных в романе. Это настоящее русское чистилище (если, конечно, позволительно это определение в русском православном контексте; но роман Павлова все-таки не православный, а экзистенциальный), в котором вместе с цивильной одеждой и дорожной грязью словно снимаются и смываются прошлые грехи молодой солдатни, и вот они свеженькие топают с песнями… прямиком в земной ад.
Второе ощущение: коллективной вины и греховности русского человека. Воруют, гонят самогон, травят им зеков, бьют своих и чужих едва ли не все в романе — но это само по себе не поражает (притерпелись), а поражает авторский взгляд на это: именно греховный русский человек ему милее, потому что честнее, потому что наиболее открыто обнажает свою историческую природу, потому что не кичится и не пыжится, но при случае может помочь «братишке» — не из чувства высокого сострадания, но как свой своему.
Честно говоря, этика прозы Павлова не до конца понятна, но она больше говорит мне правды о нравственном состоянии России, чем вся современная православная беллетристика. Вертикаль в его прозе не отсутствует; она как бы покосилась и напоминает не до конца завалившийся проселочный деревянный столб. И все, в общем, понимают, что столб надо бы поправить — а… надо ли? ведь висит еще на проводах, не порвал еще, в дома еще идет электричество и горит свет…
«Рвань, дрянь и пьянь» — говорите? Конечно, Хабаров приятнее. И мне — приятнее. И литературе — приятнее. Конечно, душа России — он. Но есть еще и дело России. На мой взгляд, Павлов еще не ответил на вопрос: что такое дело России? Но он все-таки дает понять, что это за вопрос и насколько он важен.
1997
В безбожных переулках
Вероятно, есть какая-то закономерность в том, что многие прозаики среднего поколения, не сговариваясь, стали писать мемуарные повести о своем детстве. Назову только самые заметные имена: Петр Алешковский, Алексей Варламов, Андрей Дмитриев, Олег Павлов.
И почти в каждом случае мы имеем дело с неизбежным набором компонентов: дедушка и бабушка (с одной или обеих родительских сторон), мать и отец (фигура отца показана особенно напряженно), первые детские страхи (не страшные, на взрослый взгляд, однако оказывающие мощное влияние на формирование души ребенка), коллекция более или менее случайных посторонних персонажей. И это-то уж точно не случайно. У русских повестей о детстве со времен «Рыцаря нашего времени» Карамзина и аксаковских «Хроник» сложился вполне определенный «генетический код», нарушить или преодолеть который едва ли получится без нарушения первичных законов художественности именно этого жанра.
Олег Павлов всегда был не в ладах с жанрами. Его самая известная «Казенная сказка» — повесть? Пожалуй, — да, но только в той мере, в какой она не роман и не рассказ. «Дело Матюшина» — разумеется, не роман, хотя по объему, по охвату биографии героя — разумеется, и не повесть. Предпоследняя вещь Олега Павлова под названием «Школьники» — в большей степени повесть, нежели рассказ, а вообще — «история», «эпизод». Или, вернее сказать, «истории» и «эпизоды», прихотливо сцепленные в «нечто» и объединенные одним замыслом: показать драму еще одного «гадкого утенка», мальчишки, не способного гармонично раствориться в школьном коллективе. К публикации «Переулков» автор и редакция журнала вообще не соблаговолили поставить какое-либо жанровое обозначение.