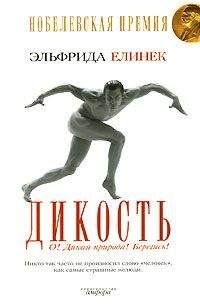А. Б.: Переводить такой текст почти невозможно, получается только далекий отблеск оригинала. Она играет на созвучии слов: звучат они почти одинаково, а значат совсем иное, даже противоположное, и человек, который читает это слово, а затем как бы его повторение уже через строчку, а то и в этой же фразе, входит в ступор, он уже не понимает, о чем именно идет речь, получается своеобразный эффект «очуждения», если воспользоваться термином Брехта. Вместе с тем, работа с таким материалом удивительно продуктивна, потому что она заставляет активизировать пласты собственного литературного языка, способствует образованию неологизмов. С другой стороны, эта работа удивительно мучительна и сложна. Порой выручает ритм текста. После первого молчаливого письменного «прогона» перевода — обязательное чтение вслух, обязательная попытка выверить строение фразы и то, как она звучит. Елинек создает звучащую литературу. Кроме того, захватывает сама попытка сотворить хоть близко похожую языковую игру. Например, довольно сложная фраза Елинек по-русски звучит так: «Женщина не успевает широко закрыть глаза. Директор не дает ей отправиться на кухню и испортить ему лакомое блюдо». Или: «Люди ходят друг к другу в гости и при этом всюду таскают себя за собой». Я попытался сохранить смысл и звуковую картинку, ритм, хотя в оригинале эти мысли выражены иначе. Прямой перевод невозможен нигде. В самой банальной инструкции «Как включить чайник» по-русски сказано одно, а по-немецки — другое. Немецкий автор напишет: «можно включить», а русский выразится в повелительном наклонении. А что говорить о литературе, в которой все построено на идиоматике, на пословицах, на образном запасе языка? Разница огромная.
При этом Елинек — автор, минимально работающий с непристойной лексикой. Она, вполне милая и не умеющая материться женщина, использует самые простые и непритязательные обозначения частей человеческого тела, движений и прочая. Но она удивительно сложно и интересно описывает состояние человеческого сознания, продуцирующего эти движения.
Во второй половине своего творчества Елинек, на мой взгляд, полностью отказывается от сколько-нибудь примирительной ситуации. В романе «Похоть» фигурирует директор завода, производящего бумагу. Раньше он, бывало, и в публичный дом захаживал, свои потенции как-то удовлетворял. А сейчас СПИД на дворе. И поэтому с чужой женщиной спать не хочется. Все удовольствия — для жены. Жена — бывшая секретарша — оказывается, таким образом, в двойном подчинении. Во-первых — жена (да убоится мужа своего). Во-вторых — он же ее поднял до своего статуса, дал дом, одел, регулярно дарит подарки. И вот начинается цепь почти механических действий. Женщина становится предметом постоянного мужского самоудовлетворения. Есть такие семьи? Несомненно. Один немецкий критик отреагировал примерно так: «Госпожа Елинек не совсем права. Это просто ее героине попался такой гад и подлец. Есть хорошие мужчины, которые могут доставить женщине настоящее удовлетворение». Рассуждать так — значит воспринять книжку вживую, а ее персонажей — как реальных людей. А Елинек пытается здесь показать, как в человеческом сознании разыгрывается форма стереотипного механического поведения, даже в ситуации по форме романтической. Где-то в середине романа эта женщина начинает пить и сбегает из дома. Зимой, в комнатных тапочках и пеньюаре, она уходит куда глаза глядят. Понятно, что в реальной жизни она бы замерзла, а в романе она идет по этому ландшафту довольно долго. Ее подбирает и обогревает в своей машине студент. Читатель ждет — вот сейчас начнется романтика. Но студент начинает ее точно так же сексуально использовать. (Кстати, вспомните снова Эмму Бовари с ее романтически клишированным сознанием — и его деконструкцию, особенно в сцене, где Леон Дюпюи склоняет Эмму к объятиям прямо в наемной карете: Елинек было у кого поучиться.) Женщина немолода, но для него это приключение: будет о чем порассказать друзьям или с девчонками над чем посмеяться. И вот повторяется все то же самое, хотя партнер другой. Зависимость, структура власти, власть в слове, поведении, положении. Постструктурализм как раз описывает ситуации властных структур, выраженных в слове. Елинек это показывает в тексте.
Корр.: В этом и заключается суть «женского порнографического романа»?
А. Б.: Само это понятие — результат того, что издательство проэксплуатировало следующую ситуацию. Елинек однажды сказала довольно интересную вещь: порнография как таковая, как жанр, как продукция, ориентирована исключительно на мужское потребление. Она представлена в мужском нарративе, мужском дискурсе и так далее, где женщина существует только как объект потребления со всеми вытекающими последствиями. Елинек имела в виду и то, что женщина в любовных отношениях часто бывает стороной проигрывающей. А издательство в рекламном тексте заявило о том, что Елинек написала первый женский порнографический роман. Как правильно сказал один из критиков — от такого порнографического романа любая страсть (Lust — это не только похоть, но и страсть, желание, радость) пройдет. Читать этот роман довольно трудно еще и потому, что та эстетическая игра, которая там идет, не лежит на поверхности. Директор фабрики, которая производит бумагу, переводит природу, лес в бумажный продукт — в то, на чем мы пишем. Бумага — то, что переводит в своих целях автор. И в пламени страсти директора сжигается мир как бумага, и сжигается бумага в пламени страсти автора, создающего этого директора. Автор, пишущий текст, также испытывает Lust — страсть интеллектуального характера. Этот термин взят из Деррида, немцы перевели его как «Lust аm Lesen», страсть к чтению, удовольствие от чтения. Здесь, как мы видим, много выходов. Да, Елинек сохраняет какие-то тенденции социалистические, социально-критические — этот директор не только свою жену имеет, но и рабочих на фабрике, потому что он на деньги из спонсорской помощи организовал хор рабочих и ездит с ними всюду. Он любит хоровое пение, ему это доставляет удовольствие, и попробуй в хор не запишись, на зарплате скажется. Но мне кажется, что социального анализа тут нет, зато есть работа с ритмом.
Что касается австрийцев, я довольно много читающего народу там знаю. Там на романы Елинек две реакции — абсолютное признание и полупризнание-отторжение. «Да, я знаю, как это здорово в литературном смысле. Но ты пойми, я прожила всю жизнь со старой матерью. И я не могу об этом читать».
Корр.: Эффект зеркала?
А. Б.: Эффект узнавания. Я рискну напомнить вам одну любопытную сцену. Есть в «Любовницах» такой эпизод. Героиня — городская девушка Бригитта, которая хочет замуж. Но будущие свекор и свекровь не хотят ее, всячески унижают, им бы кого-нибудь почище, другого класса. И будущий муж Хайнц — парень хороший, но женится на Бригитте, только если она вдруг забеременеет. Он же честный человек, и женится обязательно. Но на самом деле он этого не хочет. И вот она стремится его завлечь. Она приходит домой, он ее уже ждет, всячески готовый. И она с визгом на него бросается, валит на пол. От страсти, — потом скажет она. Бригитта из магазина принесла какие-то булочки, и они закатились под тахту. И вот во время «страстных» объятий она украдкой смотрит в сторону и думает: вот мать, поганка, не могла лишний раз подмести, грязь на полу, и бедные булочки придется теперь выбросить. И мы начинаем поеживаться — а не происходит ли это с нами, когда в самые страстные минуты вроде бы мы и поглощены любовью, а, с другой стороны, замечаем что-то такое, что не стоило бы замечать. И на самом деле все происходит не так, как об этом пишут романтические авторы, — крестьянка если уж влюблена, то обязательно падает в красивый обморок.
Вот это в Елинек интересно. Она делает то, что должен делать писатель. Она скрытое делает заметным. Толстой написал ведь, что все счастливые семьи счастливы одинаково, но каждая несчастливая несчастлива по-своему. Сытой, порядочной литературы не бывает. Литература сытого общества — никакая литература. И в этом заключается огромная проблема современной литературы западных стран, особенно до 1989 года, когда лет двадцать эти страны жили в ситуации абсолютного достатка, беспроблемности, «устаканенности». Эта литература стала терять авторов уровня Хемингуэя, Фолкнера.
Корр.: Необходим реальный жизненный материал, а не фантазии…
А. Б.: Да, к тому же еще и больной жизненный материал. Один из философов написал книгу «Конец истории». История закончилась. Противостояние двух систем завершено. Осталось только набивать карман или брюхо — вот философия постиндустриального общества или общества потребления. Это не так на самом деле. Все далеко еще не закончилось. У нас еще ислам впереди. И пять миллиардов, не входящих в знаменитый «золотой миллиард» тех, кто имеет определенный уровень доходов, у кого есть где жить и чем питаться. Но у остальных-то этого нет. И конечно же Елинек на эту линию реагирует. При этом я меньше ищу в ней какие-то тенденции, идеологические ситуации, я ищу в ней художника, который интересен.