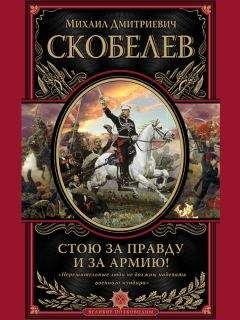Но что же из всего этого? какой результат, какой смысл какая мысль, какое, наконец, впечатление в уме читателя? Ничего, ровно ничего, больше чем ничего – стихи, и только, а к ним хорошенькая картинка, ландшафт – деревья, зелень, вода, лебедь… Чего ж вам больше? Не все же гоняться за смыслом – не мешает иногда удовольствоваться и одними стихами.
Однажды, в поэтическую минуту, внимание г. Бенедиктова привлекла —
От женской головы отъятая коса,
Достойная любви, восторгов и стенаний,
Густая, черная, сплетенная в три грани,
Из страшной тьмы могил исшедшая на свет
И не измятая под тысячами лет,
Меж тем как столько кос (,) с их царственной красою,
Иссеклось времени нещадною косою.
Надо согласиться, что было над чем попризадуматься, особенно поэту! Не диво мне, говорит г. Бенедиктов, что диадимы не гниют в земле:
В них рдело золото – прельстительный металл!
Он время соблазнит, и вечность он подкупит —
И та ему удел нетления уступит.
Эта удивительная фраза о соблазне времени и подкупе вечности золотом, как будто бы время – женщина, а вечность – подьячий, – эта несравненная фраза дает надежду, что г. Бенедиктов скажет когда-нибудь, что гранит и железо запугивают или застращивают время и вечность: и эта будущая фраза, подобно нынешней, будет тем громче и блестящее, чем бессмысленнее. Итак, не удивительно, что золото не гниет в земле; но как же коса-то уцелела?
Ужели и она
Всевластной прелестью над временем сильна?
И вечность жадная на этот дар прекрасный
Глядела издали с улыбкой сладострастной?
Час от часу не легче! Вечность доступна обольщению, подкупу! вечность сладострастна! Какая негодница!.. Но что ж дальше? – Дальше общие места по реторике г. Кошанского: где глаза этой косы, которые сводили с ума диктаторов, царей, консулов, мутили весь мир, в которых был свет, жизнь, любовь, душа, в которых «пировало бессмертие» (??!!..) и т. п. Где ж они?
И тихо выказал осклабленный скелет
На желтом черепе два страшные провала{19}.
Откуда же взялся череп? Ведь дело о косе, «отъятой от женской головы»? Подите с поэтами! Спрашивайте у них толку!..
В третьем стихотворении г. Бенедиктов бранит толпу, и, надо сказать, довольно недурно, если б только он поостерегся от персидских метафор, вроде следующих: «полотно широкой думы пламенеет под краской чувства», «гром искрометной рифмы» и т. п. вычурностей пошлого тона{20}. В четвертом стихотворении г. Бенедиктов рассказывает нам, как невинно и духовно взирал он на грудь «девы стройной»,
Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной.
Он чувство новое в груди своей питал:
Поклонник чистых муз – желаньем не сгорал
Удава кольцами вкруг милой обвиваться,
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться{21}.
Какие сильные и, главное, какие изящные и благородные образы!..
Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов – поэт столько же смелый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и мелкие рифмачи даже пишут к нему послания стихами, в которых не знают, как и изъявить ему свое удивление{22}. Нашелся даже критик, который поставил его выше всех поэтов русских, не исключая и Пушкина…{23} Само собою разумеется, что предмет поклонения всегда бывает выше своих поклонников; а так как почитателей таланта г. Бенедиктова даже и теперь тьма-тьмущая, то и нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов есть в своем роде замечательное явление в русской литературе, как были в ней замечательны, например, Марлинский и г. Языков{24}. Конечно, подобная «замечательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имеет свое значение, потому что основана не на одном только дурном вкусе эпохи или значительной, по большинству, части публики, но также и на таланте своего рода. Но мы уже не раз говорили, что есть таланты, которые служат искусству положительно, и есть другие, которые служат ему отрицательно; произведения первых приводятся эстетиками, как примеры истинного и правильного хода искусства; произведения вторых служат для примеров ложного и фальшивого направления искусства. Это бывает не с одними лицами, но и с народами: для образцов изящного вкуса смело пользуйтесь греками; для образцов дурного вкуса смело обращайтесь к китайцам и у последних берите только лучших художников и лучшие произведения. Муза г. Бенедиктова оригинальна, и муза Пушкина оригинальна; но какая между ними разница, уж не говоря о чудовищном неравенстве в таланте? Муза Пушкина – то древняя статуя, целомудренно-нагая, то женщина-аристократка, пленяющая достоинством языка и манер, изящною простотою наряда. Муза г. Бенедиктова всегда – женщина средней руки, если хотите, недурная собою, даже хорошенькая, но с пошлым выражением лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но без грации и достоинства, страшная щеголиха, но без вкуса; она любит белила и румяна, хотя бы могла обходиться и без них, любит пестроту и яркость в наряде и, за неимением брильянтов, охотно бременит себя стразами; ей мало серег: подобно индийской баядере, она готова носить золотые кольца даже в ноздрях. Все это относится только к выражению в поэзии г. Бенедиктова; что же касается до ее содержания, – с этой стороны она тем беднее, чем больше претендует быть богатою. Что многим кажется избытком мыслей в поэзии г. Бенедиктова, то не мысли, а рефлексия; рефлексия же относится к мысли, как резонерство к мышлению, умничанье к уму, толстота к величию, надутость к высокости, сентиментальность к чувству, бравура к храбрости. Разложить стихотворение г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его содержание из него же взятыми и нисколько не измененными фразами – всегда значит обратить его в пустоту и ничтожество. Во всяком случае, повторяем, г. Бенедиктов – замечательное явление в нашей литературе, и мы очень рады, что его поэтическая физиономия воспроизведена во «Сте русских литераторах» с тою верностию, за которую поручится каждый, кто даже и никогда не видал его, но читал его произведения.
Статья г. Греча «Гейдельберг» (Ф. В. Булгарину, ответ на его «Tutti frutti»[5]) могла бы нас очень удивить, если б мы могли еще чему-нибудь удивляться в русской литературе, – особенно во «Сте русских литераторах»{25}. Но сперва о г. Грече, не как о лице, а как о литераторе, а потом уже и о статье его. Литературная деятельность г. Греча разделяется на три эпохи: в первой, от 1812 (а может быть, еще и раньше) до 1831 года, он является преимущественно грамматистом, составляет огромные грамматики, пишет о грамматике, хлопочет о русском языке{26}, во второй, от 1831 до 1836, он делается романистом, начав с довольно плохого рассказа – «Поездка в Германию» и кончив довольно плохим романом – «Черная женщина». С тех пор и до сего времени он по преимуществу турист{27}. В промежутках он издавал «Сын отечества» и «Северную пчелу»{28} и, по уверению «Библиотеки для чтения», прочел в корректуре всю русскую литературу; кроме того, в 1840 году читал публичные лекции, в которых был «взгляд и нечто»{29} насчет русской грамматики и литературы, преимущественно же современной журналистики, которою тогда этот почтенный ветеран нашей словесности имел причины быть недовольным. Какая неутомимая и многосторонняя деятельность! Около (а может быть, и больше) тридцати пяти лет печатается этот человек, не старея, а все обновляясь и молодея! О портрете г. Греча никак нельзя сказать, чтоб он поздно попал во «Сто русских литераторов». Может быть, поздно как портрет грамматиста, как журналиста, как романиста, как лектора, но отнюдь не поздно как туриста: если давно забыты его прежние письма из-за границы, он напоминает о них нынешними, говоря в них почти то же самое и совершенно также, что и как говорил в прежних. Теперь он уже ни о чем больше не пишет, как только о своих путешествиях. На этот раз он знакомит нас с Гейдельбергом. Между прочим, он говорит о Гейдельбергском университете и за новость рассуждает об известном ученом творении Крейцера – «Символике», десять томов которого выходили с 1810 по 1820 год{30}. Оно хоть и не ново, а все бы интересно, если б наш турист мог сказать об этой книге что-нибудь больше того, что может сказать о ней всякий, никогда ее не читавший. Но вот самое интересное и живописное место из статьи о Гейдельберге:
Климат в Гейдельберге теплый и здоровый. Лето, к сожалению, обыкновенно дождливое. Такова участь долин; тучи дождевые, забравшись между гор, не скоро их оставляют. Но весна и осень здесь несравненные! Могу сказать, что в нынешнем 1844 году я впервые от роду узнал, что такое весна. У нас на севере это время неизвестно: весною называем мы переход от холодной зимы к сырому лету.