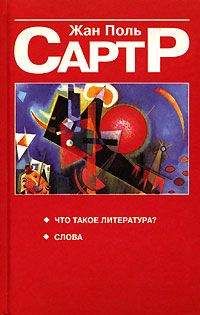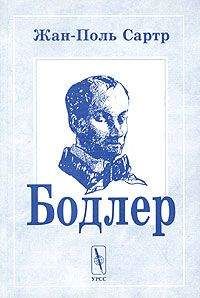Ознакомительная версия.
Если внутренние противоречия жизни и творчества сделают невозможным и то и другое, если послание, по сути не поддающееся расшифровке, докажет нам главные истины: "человек не добр и не зол", "жизнь человека наполнена страданиями", "гений – это лишь долгое терпение"; то будет, наконец, достигнута единственная цель этой безумной кухни, и читатель, закрыв книгу, сможет сказать: "Все это лишь литература!"
Когда же литературное произведение для нас – некое предприятие, если писатель, прежде чем скончаться, живет, когда мы думаем, что нужно постараться сказать в своих книгах правду, пусть со временем задним числом докажут, что мы ошибались, – все равно это еще не причина, чтобы заведомо считать нас неправыми. Когда мы полагаем, что писатель должен стать полностью ангажированным в своих произведениях, и делать это не пассивно, выставляя на первый план свои пороки, несчастья и слабости, а, проявляя настойчивость и решительность, приняв решение, взяв на себя задачу жить, как это делает каждый из нас, – вот тогда надо опять вернуться к этой проблеме и задаться вопросом: для чего писатель пишет?
Здесь у каждого свои причины. Для одного искусство – уход от реальности, для другого – способ справиться с нею. Но ведь можно уйти в отшельничество, в безумие, в смерть; победить с оружием в руках. Почему же писатели именно пишут, реализуя свое бегство или свои победы именно таким способом? Потому что за разными целями авторов есть более глубокий и более близкий выбор, один для всех.
Попробуем прояснить суть выбора. Ясно, что уже сам по себе он вынуждает писателя ангажироваться. Любая сторона нашего восприятия сопровождается сознанием, что реальность человеческого можно "разоблачать". Это значит, что через нее мы узнаем, что "есть" конкретный человек, или, иначе – посредством человека выражается бытие вещей. Лишь наше присутствие в мире множит взаимоотношения, только мы поддерживаем связь между этим деревом и этим кусочком неба; благодаря нам, эта звезда, умершая миллионы лет назад, и этот серп луны, и эта черная река проявляют свое единство, объединяясь в пейзаж. Скорость нашего автомобиля или самолета объединяет огромные земные пространства. Через каждое наше Действие мир открывает нам обновленное лицо. Мы осознаем, что через нас передается бытие, но знаем и то, что не мы его творцы. Достаточно отвернуться от пейзажа, как он, оставшись без свидетеля, утонет в беспросветном мраке. Именно утонет – вряд ли удастся найти безумца, готового поверить, что он исчезнет вообще. Это мы исчезнем, а земля останется в состоянии летаргии, до тех пор, пока сознание другого человека не разбудит ее. Вот так к нашей внутренней уверенности в том, что мы разоблачители, присоединяется уверенность в том, что у нас нет сущности по отношению к разоблаченному объекту.
Но наша потребность чувствовать себя на первом месте по отношению к миру – это один из главных мотивов художественного творчества. Если я оставлю на полотне или в литературном произведении образ моря или поля, которые я разоблачил, объединив их друг с другом, упорядочив, наделив разнообразие вещей единством духа, то будет казаться, что я их произвел. Я начинаю считать себя более важным, чем мое произведение. Но сотворенный объект от меня ускользает: не могу же я одновременно и разоблачать, и творить. Объект становится второстепенным по сравнению с творческим актом. Даже если этот объект воспринимается другими людьми как завершенный, нам он всегда кажется незаконченным. Мы можем изменить линию, какой-то оттенок, слово. Произведение никогда не навязывается автору извне. Один ученик художника спросил учителя: "Когда я должен понять, что картина завершена?" – "Когда сможешь смотреть на нее с удивлением, спрашивая себя: "И это сделал я?"".
Иначе говоря – никогда. Потому что это означало бы смотреть на свое произведение чужим взглядом и разоблачать то, что сам создал. Чем больше значения мы придаем творческому акту, тем меньше осознаем значение своего творения. Гончарные или столярные изделия мы создаем по готовым рецептам, пользуясь давними обычаями, нашими руками действует пресловутое "Man" Хайдеггера. В этом случае плод нашего труда может восприниматься нами достаточно чуждым, чтобы оставаться для нас объектом. Но если мы сами придумываем правила производства, его меры и критерии, если наш творческий порыв идет из глубины сердца, – мы видим в своем создании только самих себя. Это мы сами придумали законы, по которым его судим, мы видим в нем собственную историю, свою любовь, свою радость. Даже просто рассматривая его, больше к нему не притрагиваясь, мы не получаем от него этой радости, этой любви, а, наоборот, отдаем их ему. Итог, полученный на полотне или бумаге, никогда не будет в наших глазах объективным. Мы слишком хорошо знаем, как именно сделано все это. Этот способ будет личной находкой творца. Это мы сами, наше вдохновение, наша изобретательность. Если мы снова пытаемся воспринять свое создание, мы опять творим его, мысленно повторяем те операции, через которые произвели его на свет. Каждый его аспект является для нас результатом.
Мы видим, что в процессе восприятия важным является объект, а субъект – второстепенное; последний ждет своего осуществления в творчестве и получает его. Теперь уже объект становится второстепенным.
Нигде эта диалектика не видна так явно, как в литературном творчестве. Литературный объект – некий волчок, существующий, лишь пока вертится. Чтобы он появился, необходим конкретный акт, называемый чтением, и волчок вертится до тех пор, пока длится чтение. Без чтения существуют только черные значки на бумаге. Писатель не может читать то, что он написал, а сапожник может обуть сделанные им башмаки, если они ему по размеру, архитектор может жить в построенном им доме. Читающий человек предвидит, ожидает. Он предугадывает конец фразы, начало следующей, очередную страницу, они должны подтвердить или опровергнуть его предположения. Процесс чтения состоит из множества гипотез, фантазий и пробуждений, радужных надежд и горьких разочарований. Читатель забегает вперед строки в будущее, которое частично рушится, частично утверждается по мере приближения к финалу книги, оно отступает со страницы на страницу, словно подвижный горизонт литературного пейзажа.
Не существует объективности без ожидания без будущего, без неопределенности. Таким образом, литературное творчество предполагает особый род мнимого чтения, которое делает подлинное чтение неосуществимым. По мере того, как слова возникают под пером автора, он их, конечно, видит, но видит иначе, чем читатель. Он знает их еще до того, как написал: его взгляд предназначен не для того, чтобы разбудить спящие слова, которые ждут, чтобы их прочитали, а в том, чтобы отслеживать правильное начертание знаков. По сути дела, это чисто техническая задача, и глаз замечает только мелкие ошибки пишущего.
Писатель не предсказывает будущее и не строит догадок – он замышляет. Частенько он ищет себя, ждет вдохновения. Однако, ждать от себя – совсем не то, что ждать от других – если он сомневается, он знает, что будущего пока еще нет, что его только предстоит создать собственными силами. Если он пока не знает, что случится с его героем, значит, он либо еще не думал об этом, либо не решил окончательно. Будущее для автора – чистый лист, тогда как для читателя это двести страниц текста, которые отделяют его от финала книги.
Писатель всюду наталкивается на свое знание, свою волю, свои замыслы, короче говоря, на самого себя. Он входит в контакт лишь со своей субъективностью, созданный им объект ему недоступен, он создал его для других. Когда он перечитывает свою книгу, дело уже сделано, фраза никогда не будет у его глазах вещью от начала и до конца. Автор вплотную приближается к грани субъективного, но не переступает ее. Он оценивает эффект отдельного нюанса, того или иного изречения, удачно употребленного причастного оборота, но впечатление они произведут на других. Он может предугадать это впечатление, но не пережить его.
Пруст не обнаружил, что Шарлю гомосексуалист, он решил создать его таким прежде, чем начал писать свой многотомный роман. Бели произведение когда-нибудь приобретает для автора мнимую объективность, виной этому время. Автор уж не в состоянии прочувствовать свое детище и, конечно, не способен был бы сегодня его написать. Так было с Руссо, когда он в старости заново перечитывал "Общественный договор".
Поэтому нельзя сказать, что писатель пишет для самого себя. Тут его постигло бы полное фиаско: перенося свои чувства на бумагу, он в лучшем случае добился бы скучного их продления. Творческий акт – только один из моментов в ходе создания произведения. Если бы автор существовал на необитаемом острове, он мог бы писать сколько душе угодно, его творение как объект никогда не увидело бы света. В конце концов, ему пришлось бы отложить перо в сторону или впасть в отчаяние. Процесс писания подразумевает и процесс чтения, они образуют диалектическое единство. Эти два взаимосвязанных акта требуют наличия как автора, так и читателя. Только их совместное Усилие заставит возникнуть тот предельно конкретный и одновременно воображаемый объект, каким является творение человеческого духа. Искусство может существовать только для других и посредством других.
Ознакомительная версия.