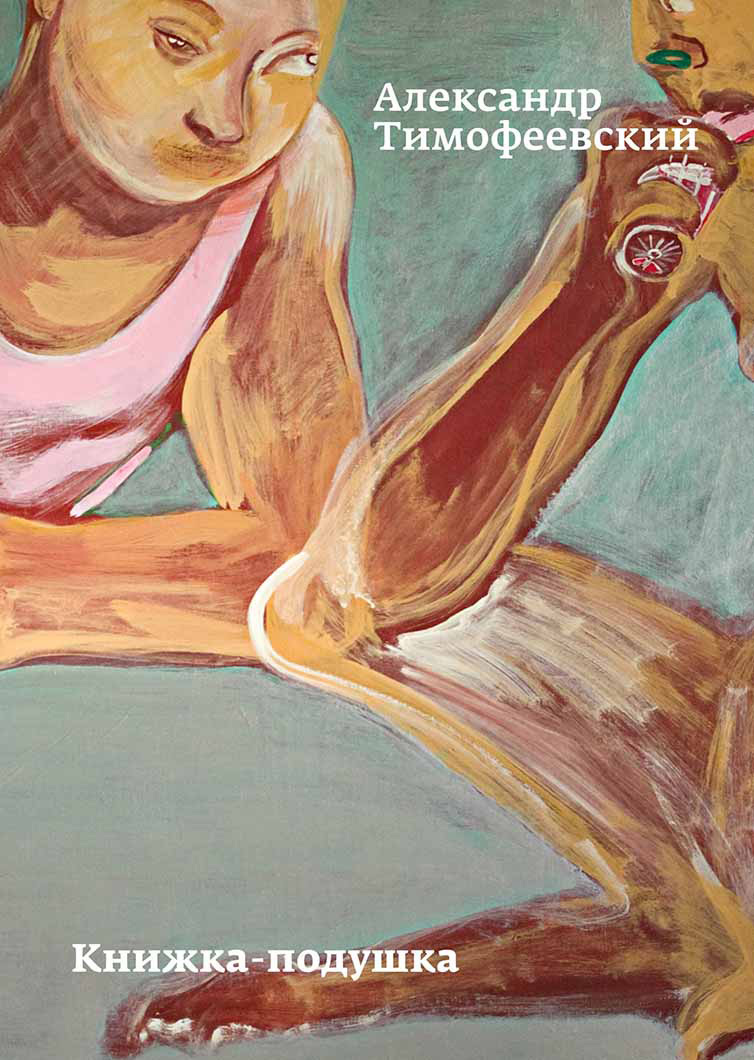посягнет на его даму. Смотреть на пояс было болезненно, Милок жадно на него кинулась. Она хотела фотографироваться с поясом во что бы то ни стало. Как нельзя, да почему?!! Не вдаваясь в объяснения, писатель отложил в сторону мыльницу, снял со стенда висящую там шпагу и начал фехтовать сам с собою. В сущности, он был добрый малый. Но меня передернуло: хозяин замка что — то объясняет неведомым ему русским, старается, говорит по — английски, а это хамло… Ну, не скандалить же с ним, в самом деле? А писатель все поражал невидимого врага, шепча: «Жопа!» «Целую ваши ручки», — сказал я, взглянув на Милок. «Как не стыдно! Вы оба — не мужчины», — прошипел старик по рыбе.
Перед тем, как идти на виллу Палагония, писатель высказался. Нет, он не сдвинется с места, не нужна ему эта Палагония, незачем тратить на нее пленку, надоели ему церкви до воя. Это не церковь? Какая разница! Все равно его журнал такого не напечатает, он по туризму, а не по музеям. У одной из дам адски разболелась голова: вы идите, идите, а я здесь посижу. Но никто не захотел об этом слышать. Как?! Мы пойдем наслаждаться искусством, а она останется в мрачном автобусе? Нет, мы — группа, мы всегда вместе, или вместе идем, или вместе сидим, и вообще мало ли что случится. Кто — то со словами «Господи, надо же что — то делать!» ринулся на поиски аптеки, за ним увязался второй, третий. Замминистра — туда же. Он хоть и не знал ни одного слова ни на одном языке и вообще был не ходок на длинные дистанции, но ничего не попишешь, они купят не то лекарство, сами видите, какие это люди. На виллу пошли мы с Милок.
Созданная в XVIII веке каким — то сумасшедшим аристократом вилла Палагония возмутила Гете: он не мог принять такого наглого парада уродов, такого безоговорочного триумфа монстров. От скульптуры к скульптуре, от обманки к обманке вилла строилась как рассказ — про возраст культуры, про ее старение, про ее маразм, про ум, который дается только безумием, про вкус, который ищет одну безвкусицу, про свободу, возникающую от усталости. Это было искусство, настолько изысканное, что уже почти простецкое, настолько изощренное, что прикидывалось не искусством. Оно впадало в варварство, как в детство.
Вилла Палагония — это образ Сицилии, которая состоит из лучшей в мире Греции — высокой античности V века до н. э., из византийского прекраснейшего искусства, норманно — арабской смеси и из барокко. Причем все вместе это — растянутый на тысячелетие маньеризм. И барокко здесь не римское, а с арабо — норманнскими воспоминаниями, с византийским откровением, с испанским изуверством, с тем нагромождением причудливого, что делает маньеристичным любой стиль. Не только Палагония, а всякий раз Сицилия — это соединение дикого и изощренного, народного и аристократического, самого изысканного с самым грубым. Поэтому она так современна — там разные культурные разности представлены в своем почти мультипликационном обличии, они обнажены и открыты, у них беззащитно — детский вид. Барокко — искусство, радующее детей, а сицилианское — с таким количеством уморительных деталей, что выходит анимация. Вилла Палагония, по всему, должна была мне нравиться, и не просто так, а до писка, но я стоял, глядел и ничего не чувствовал — Милок мне мешала. Она сначала ахнула, потом запричитала, потом вдруг умолкла и ходила завороженная, но недолго: она смотрела мультфильм, который разворачивался от зала к залу и быстро кончился. После кино ей захотелось писать. «Вы не знаете, где здесь одно местечко?» — спросила она. Я не сразу понял, о чем меня спрашивают: «Вы имеете в виду сортир?» Милок стала напыщенной, как георгин в августе. «Моя бабушка, — строго заметила она, — меня не так воспитывала. Она учила, что с мужчинами некрасиво употреблять это слово. Девушка должна быть вежливой». Милок не повезло — я вдруг сорвался, со всеми бывает. Я не сказал «целую ваши ручки», я сказал ей все: что бабушка у нее мещанка, но это и так было видно; что сортир внизу и не может ли она там остаться, незачем ей ходить по вилле, все равно не в коня корм; и не нужно всюду лезть и сниматься у каждого куста, у любого креста, что ее там не стояло, понимаете, Эмилия, вас там не стояло, не сто — я–ло, проговорил я по слогам ахматовскую шутку, будто она от этого делалась для Милок более ясной. Она не знала Ахматовой. Она не оценила шутки. Она смотрела на меня затравленными пустыми глазами, из которых лились слезы.
Бунт долго зрел и, наконец, случился. И произошел он за едой и из — за еды. Нас перевозили из города в город, из провинции в провинцию и дважды в день кормили в лучших ресторанах. Разумеется, они не согласовывали друг с другом меню, а просто выставляли самое дорогое и вкусное, что у них было. Этим самым дорогим и вкусным неизменно оказывалось одно и то же: так дважды в день мы были обречены на креветок, кальмаров, лобстеров, крабов, осьминогов, мидий и белое вино. На седьмой день терпение лопнуло. Замминистра по рыбе оказался вовсе не по рыбе, а по мясу.
Ссылаясь на возраст, он потребовал себе антрекот. За ним потянулись другие. Они не хотели дорогого и вкусного, они хотели дешевого и привычного. Они не хотели больше ни византийских, лучших в мире, церквей, ни античных храмов, ни средневековья, ни барокко, никаких замков и вилл, никакой красоты. Они не хотели программы. И проголосовали за то, чтобы ее отменить. Я отошел покурить в сторону.
Против была одна Милок.
* * *
В Агридженто есть долина храмов — это вытянутые в цепочку развалины парфенонов разной степени сохранности.
Они стоят в широкой ложбине горы. И когда вы смотрите на них снизу, где расположены отели, то видите Древнюю Грецию, парящую в поднебесье. Это фантастическое зрелище — километры летящих в небе дорических колонн. Они особенно впечатляют вечером, когда подсвечены, а вы сидите в ресторане, — внизу в долине располагаются самые лучшие рестораны — и там звучит пошлая неаполитанская песня, такая пленительная, и сладко поет тенор. Вы едите осьминогов, мидий, креветок и смотрите на храмы. И понимаете, что такое истинное бытование археологии: она лишается своего археологического чванства и становится частью еды. Она инсталлируется в ресторан. И в этом своем потребительском качестве она перестает быть прошлым,