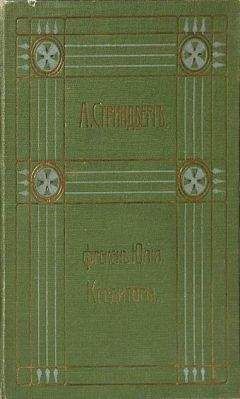Поэтому и диалог сбивается в первых сценах, не в силах справиться с материалом, который будет обработан позднее, возобновляется, повторяется, развивается, выясняется, как тема в музыкальной композиции.
Действие довольно напряжено, и, так как оно, собственно, касается двух лиц, то я ими и ограничился, введя только одно второстепенное лицо, кухарку, и заставив несчастный дух отца парить над всем и позади всего целого. Ибо я заметил, что людей новейшего времени больше всего интересует психологическое развитие, и нашим любознательным душам мало видеть одно происходящее, не зная, как оно происходит! Мы хотим видеть самые нити, видеть машину, исследовать ящик с двойным дном, взять волшебное кольцо, чтобы найти шов, заглянуть в карты, чтобы узнать, как они помечены.
При этом я имел перед глазами монографические романы братьев Гонкур, которые изо всей современной литературы говорят мне больше всего.
Что касается техники композиции, то, в виде опыта, я уничтожил деление на действия. Так как я находил, что наша убывающая способность к иллюзии, по возможности, не должна развлекаться антрактами, во время которых у зрителя является возможность обдумать всё и, стало быть, ускользнуть от внушающего влияния автора-магнетизера. Моя вещь, длится полтора часа, и раз можно выслушать такую же, или более длинную, лекцию, проповедь или прения на конгрессе, то мне казалось, что и театральная пьеса не должна утомить в течение часа с половиною. Еще в 1872 г., в одном из моих первых театральных опытов, в Лишенном мира, я прибег к этой сконцентрированной форме, хотя и с меньшим успехом. Пятнающая вещь была уже совсем готова, когда я обратил внимание на её раздробленное, беспокойное действие. Я сжег ее, и из пепла возник один большой переработанный акт в пятьдесят печатных страниц, игравшийся целый час. Таким образом, форма не нова, но я считаю ее моей особенностью и возможно, что с переменою вкусов она покажется весьма своевременной. Прежде всего мне хотелось бы создать настолько воспитанную публику, которая высидела бы целое представление в одном единственном акте. Но это еще нуждается в опыте. А чтобы в то же время приготовить возможность отдыха для публики и исполнителей, не нарушая иллюзии, я применил три вида искусства, при чём все они относятся к драме; а именно: монолог, пантомиму и балет, первоначально связанный с древнегреческой трагедией, при чём монодия стала теперь монологом, а хор — балетом.
Монолог теперь уже изгнан нашими реалистами, как неправдоподобный, но стоит мне обосновать его, и он станет правдоподобен и, стало быть, может быть употреблен с пользой. Ведь правдоподобно, что оратор ходит один по комнате и громко прочитывает свою речь, — правдоподобно, что актер проходит вслух свою роль, что девушка болтает со своей кошкой, мать лепечет с ребенком, старая дева трещит со своим попугаем, а спящий разговаривает во сне. И чтобы дать актеру возможность самостоятельной работы и один миг свободы от указки автора, лучше всего давать не готовые монологи, а лишь указания. Потому что довольно безразлично, что говорить сквозь сон, или попугаю или кошке, так как это не влияет на действие, и даровитый актер, проникнутый настроением и положением, может импровизировать всё это лучше автора, которому нельзя рассчитать заранее, сколько и долго ли понадобится болтать, пока публика не проснется от иллюзии.
Как известно, итальянский театр, на некоторых сценах, вернулся к импровизации, и тем создал актеров-поэтов, но по плану автора, что может быть шагом вперед или новым нарождающимся видом искусства, в виду чего может быть уже речь о представляющем искусстве.
Там же, где монолог мог бы показаться неправдоподобным, я прибег к пантомиме, и здесь я предоставляю актеру еще большую свободу творчества — и честь быть самостоятельным. А чтобы в то же время не слишком напрягать публику, я ввел музыку, обосновав ее всё же хороводами Ивановой ночи, и заставил ее оказывать свою власть иллюзии во время безмолвной игры, но прошу дирижера умело выбирать музыкальные пьесы, чтобы не вызвать постороннего настроения воспоминаниями о модной оперетке или модных танцах или слишком этнографически-народных тонах.
Балет, который я ввел, не может быть заменен какой-нибудь из так называемых народных сцен, потому что народные сцены играются плохо и толпа гримасников хочет воспользоваться случаем показать свое остроумие и тем нарушить иллюзию. Так как народ не импровизирует своих злых шуток, но пользуется готовым материалом, могущим иметь двойной смысл, то я не стал сочинять бранной песенки, но взял менее известную пляску, которую я сам открыл в окрестностях Стокгольма. Слова подходят лишь отчасти и не метят прямо в цель, но и это имеет свое значение, потому что лукавство (слабость) раба не допускает прямого нападения. Так вот, никаких говорящих шутников в серьезном действии, никакого грубого зубоскальства по поводу положения, где возлагается крышка на гроб целого рода.
Что касается декораций, то я заимствовал у импрессионистской живописи асимметрические, усеченные линии и этим, мне думается, выиграл в силе иллюзии; потому что, благодаря этому, не видя всей комнаты и всей мебели, зритель получает возможность догадки, т. е. начинает работать и дополнять воображением. Я еще выиграл и тем, что устраняю утомительные выходы в дверь, так как театральные двери из холста дрожат при малейшем прикосновении и не могут даже выразить гнева рассерженного отца семейства, когда он уходит после плохого обеда и так хлопает дверью, «что весь дом дрожит». (На сцене колеблется.) Равным образом я придерживался одной декорации, как для того, чтобы, образы слились с обстановкой, так и для того, чтобы порвать с декоративною роскошью. Но раз пользуются только одной декорацией, то можно требовать, чтобы она была правдоподобна. А нет ничего труднее, как устроить комнату, почти похожую на комнату, как ни легко художнику изобразить вулкан или водопад. Пусть стены будут из холста, но пора бы уже перестать рисовать на холсте полки и кухонную посуду. Мы должны верить в столько других условностей на сцене, что нам следовало бы избавить себя от чрезмерного труда верить еще и в нарисованные горшки.
Я поставил заднюю стену и стол наискось, чтобы актеры могли играть en face и в половинном профиле, когда они сидят за столом друг против друга. В «Аиде» я видел поставленную наискось заднюю стену, уводившую глаз в неизвестную перспективу, и мне не казалось, что это возникло из духа противоречия утомительным прямым линиям.
Другим не бесполезным нововведением было бы устранение рампы. Этот свет снизу должно быть имеет в виду делать лица актеров более полными; но я спрашиваю: почему у всех актеров должны быть полные лица? Разве этот свет не скрадывает целый ряд тонких черт в нижней части лица, в особенности челюсти, не искажает формы носа, не бросает тени на глаза? А если это и не так, то несомненно одно: глазам актера больно до того, что могущественная игра взгляда совсем пропадает, так как рамповый свет падает на сетчатую оболочку в недоступных свету при обычных условиях местах (кроме моряков, которые видят солнце в воде) и поэтому редко видна иная игра глаз, кроме резкого пристального взгляда либо в сторону, либо на верхние ярусы, при чём видны только белки.
Пожалуй, тою же причиной можно объяснить и утомительное мигание век, в особенности у актрис. И если кто хочет говорить со сцены глазами, у него один только выход: смотреть прямо в публику, с которою он или она вступает тогда в непосредственное сношение вне рамы драпировки, а этот дурной обычай, справедливо или несправедливо, называется «Приветствием знакомым»!
И нельзя ли было бы достаточно сильным боковым светом (рефлектора или чего-нибудь в этом роде) оказать актерам эту новую помощь: усилить мимику могущественнейшим средством выражения лица: игрою глаз?
У меня вряд ли найдется несколько иллюзий для того, чтобы заставить актера играть перед публикой, а не с публикой, хотя это было бы желательно. Я не мечтаю о том, чтобы видеть спину актера в течение всей важной сцены, но я горячо желаю, чтобы решительные сцены не проходили у суфлерской будки, как дуэты, в расчете на аплодисменты, и желал бы, чтобы они исполнялись на указанном положением месте. Стало быть, никакого переворота, а лишь незначительные видоизменения, потому что, превращая сцену в комнату без четвертой стены и, стало быть, ставя часть мебели спиною к зрительному залу, можно, пожалуй, повредить впечатлению.
Если б я захотел говорить о гриме, то я не смел бы надеяться, что меня станут слушать дамы, так как они стараются скорее быть красивыми, чем естественными. Но актер мог бы взвесить, выгодно ли ему придавать лицу при помощи грима абстрактный характер, облекающий его, как маска. Представим себе господина, проводящего сажею у себя между глазами резкую холерическую черту, и допустим, что при таком постоянном сердитом выражении ему приходится улыбаться при соответствующей реплике. Какая чудовищная гримаса должна получиться? И как может этот накладной, блестящий, как бильярдный шар, лоб морщиться, когда старик сердится?