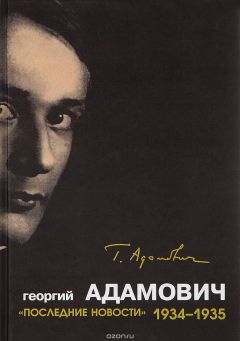В «Заметках» Презента много остроумного и верного. К сожалению, только основа их произвольна и даже, пожалуй, анти-научна. Автор именно декретирует: так можно, так нельзя… Отчего «можно» и «нельзя», неизвестно. Из-за этого происходят кое-какие недоразумения.
Нельзя, по мнению Презента, говорить «соревноваться»; это, будто бы, возвратная форма. Нельзя «соревноваться», как нельзя «гуляться», «играться» и т. д. Ну, а как же, спросим мы от себя, с глаголами «сражаться» или «драться»? Что же, — «я сражаюсь», значит «я сражаю себя»? И, следовательно, эту форму тоже необходимо «запретить»? Или в «соревноваться» есть возвратность, которая в «сражаться» почему-то отсутствует? Шаткость построения сразу обнаруживается. Можно быть уверенным, что если русский язык примет и узаконит глагол, который «редактору Презенту» не по вкусу, то никакими грамматическими и логическими соображениями его оттуда не исключить.
Нельзя, по мнению Презента, писать «благодаря» при наличии вреда, а не пользы. «Благодаря засухе, урожай оказался плохим…» Об этом несчастном «благодаря» спор идет уже добрых сто лет. Разумеется, логически правы те, кто допустимость его отрицает. Но дело ведь в том, что слова живут, теряя прежнее значение, приобретая новое. В «благодаря» сейчас уже нет следа благодарности, это — просто синоним таких выражений, как «из-за» или «по причине». Презент с осуждением цитирует Кони:
«Источники, пользование которыми до последнего времени, благодаря бюрократической инерции, не было поставлено в надлежащие культурные условия, в начале нынешнего столетия находились в полном пренебрежении».
Это, конечно, не безупречная фраза. Но она скорей неприятна, чем неправильна. Ошибки в ней нет.
Странно и досадно в «Заметках редактора» то, что автор их, нападая на многие вполне естественные русские выражения, отстаивая, наоборот, такие насквозь книжные новшества, как «цветморие» (море цветов) или «прижаблен» (прижать, как рыба) Маяковского, уделяет сравнительно мало внимания ужасающему жаргону официальных советских выступлений и, в особенности, нивелировке речи, — «обезличке», или «уравниловке», по Сталину, — все растущей привычке пользоваться готовыми кусками фраз, вместо отдельных слов. Если с языком в СССР и произошла катастрофа, то именно в этой плоскости, а никак не в злоупотреблении глаголом «проработать» («проработать тему», «проработать доклад» — не плохой глагол, по моему, возбуждающий отвращение Презента), и не в том, что «бригады соревнуются», или «планы по молоку не выполняются». Это все пустяки, и если тут попадаются уродства, то с ними язык справится: изменит их или выбросит. Опасно то, что литературная речь механизируется, что все начинают писать совершенно одинаково, а раз одинаково, то, значит, неизбежно — «одинаково плохо», ибо неточно, приблизительно, грубо, условно, без соответствия личной мысли и отражения ее.
Но эта опасность, эта беда выходит за пределы стилистические или языковые, и редакторскими наставлениями тут не поможешь. Причина гораздо глубже и, добавлю, трагичнее: она в укладе жизни, в тех формах, которые жизни навязываются. Поэтому она и страшнее, чем сначала может показаться. Это как бы первый знак метерлинковского зловещего «муравейника», первый и непредвиденный результат коммунизма, еще не ставшего реальностью, но уже принятого как принцип. Теперь, оглядываясь назад, мы готовы сказать: иначе и быть не могло.
Действительно, в России, — как, впрочем, и в других государствах новейшего «планового» типа, — культура строится сверху, а не снизу. Один человек или одна идея ведет за собой страну, и гражданам предоставляется право «творчества» только в пределах данной идеи, только в качестве винтиков одной, верховной машины. Что такое язык? Язык есть плоть мысли. Если мысль подрезана в корне, если она лишена свободы в момент выбора и самоопределения, если ей представлена только рабочая, исполнительная роль, — живого языка быть не может. Даже больше: живой язык должен навлечь на себя подозрения, ибо он является выражением еще не сдавшейся, еще непримирившейся мысли, хотя бы и служил ортодоксальнейшим, благонадежнейшим целям… В нем все-таки скрыта возможность отказа и бунта, потому что человек, им говорящий, еще не променял свой личный опыт на опыт чужой и общий. Сталин и в особенности его верный ученик Каганович постоянно настаивают на необходимости бороться с «трафаретом». («Надо решительно и неотложно изгнать еще имеющиеся в партийной и профсоюзной массовой работе трафаретный стиль и шаблонность речи», — одна из последних речей Кагановича). Если это не какая-нибудь хитрость с его стороны, то, по всей вероятности, простая слепота. Кстати, советские «вожди» вообще, при всяком удобном случае, указывают, что личность при коммунизме не захиреет, а расцветет… Но о том, как и почему это произойдет, как примирится это с обязательным согласием всех со всем, они молчат. О языке они, надо полагать, просто мало думают, и потому дают обычные, общепринятые указания. Но попробуй кто-нибудь произнести в присутствии того же Кагановича речь без «трафарета», он, вероятно, сразу встревожился бы и почувствовал неладное. Только этого не произойдет. Речи по-прежнему будут «разворачиваться» по такой-то «линии», под таким-то «знаком»… Идея, выраженная одним человеком для общего пользования, без права каких-либо изменений или добавлений, не может не игнорировать все индивидуальное, неповторимое или случайное: все мировое разнообразие, одним словом. Она не нуждается в индивидуальном языке, она боится его, — а он бежит от нее. Творчество требует риска и ответственности, а здесь их-то и нет.
Нам всем, — кажется, в данном случае, действительно, всем, без исключения, — нестерпимо скучен и постыл казенный советский язык. Думаю только, что мы не вполне отдаем себе отчет, в чем тут дело, и как случилось, что почти вся пишущая Россия внезапно превратилась в какую-то канцелярию, с безмерносерым, тягучим и мертвенным стилем. А это — именно исчезновение жизненного разнообразия, конец «творчества снизу», с непогрешимой чуткостью отразившееся в слоге. Если мы держимся за язык свой, иной, личный, то отстаиваем вместе с ним и то, что нам может быть дороже языка: богатство и сложность мира, всю волшебную органическую тонкость его ткани, — против грубой и унылой общей, общеобязательной схемы, которая грозит его себе подчинить.
Флот и море сейчас на «повестке дня» в советской литературе.
Не знаю, случайно ли это увлечение, или, может быть, оно возникло по приказу, в исполнение какого-нибудь «руководящего» лозунга, вроде тех, которые время от времени «мобилизуют» внимание писателей на определенном «участке строительства». Причина не совсем ясна, но факт бесспорен; к морским темам есть сейчас в советской беллетристике сильная тяга. О флоте пишут больше и охотнее, чем об армии.
Из книг «армейских» военных за последнее время, кроме «Тяжелого дивизиона» Лебеденко, нечего назвать. Тихоновская «Война», превознесенная некоторыми московскими критиками как шедевр, насквозь риторична и представляет собой лишь умную, ловкую подделку под искусство, увлечение, пафос или энтузиазм. Книга пуста и плоска, в ней нет ни одной мысли, что, конечно, и оценено в Москве по достоинству. Даровитый человек, Тихонов в своей «Войне» окончательно и решительно «перестроился» и за это причтен к лику рекомендованных классиков. А больше ничего и нет, если не считать, конечно, добросовестного и никчемного рукоделия, находящего себе место в «оборонных» журналах, но к литературе отношения не имеющего. Гражданская война истощила воображение авторов. С тех пор, как она отошла в область предания, и повествовать о ней стало не принято, армия тщетно ждет своих певцов или хотя бы только бытописателей.
Флоту повезло. Правда у него есть и природное преимущество, которое должно к нему привлекать и тянуть: прелесть и величие самого моря, очарование стихии, служащей фоном во всяком рассказе о жизни на корабле… К этому все более или менее чувствительны, и как бы ни был предвзят и прямолинеен «классовый подход» в изображении событий, стихия все-таки возьмет свое. Если автор бессилен найти для него новые личные слова, то неизбежно воспользуется одним из готовых клише, — и все-таки в его повествование ворвется широкий и вольный морской дух, будто ветер в распахнувшееся окно. О море писать легче, чем о земле. Море, по вековой бессмертной традиции, как бы облагораживает человека, возвышает его, за свой счет делает поэтом, в то время как земля никаких готовых козырей в творческую игру не дает. Оттого у литературы с морем — давняя, неразрывная дружба.
Из советских морских романов самый известный — «Цусима» Новикова-Прибоя. Книгу эту в России много читают и довольно единодушно хвалят. Книга не лишена внешней занимательности и написана не без бойкости. Не касаюсь, разумеется, ее политической тенденции, которая грубо односторонняя и порой заставляет автора, участника цусимского боя, бессовестно подтасовывать факты: говорю только о качестве повествования. Увлечение «широких масс» романом Новикова-Прибоя понять можно. Но надо все-таки добавить, что это роман полулитературный: читателя мало-мальски требовательного он не удовлетворит… «Цусима» написана просто, — но и только. Хорошо, что в ней нет вывертов и того, что сейчас в России называют «трюкачеством», но это простота еще первичная, сырая, ни через какие испытания не прошедшая. Такие романы — с диаметрально-противоположной тенденцией, конечно, — помещались в доброе старое время в «Историческом вестнике» или в приложениях к «Ниве» и тоже читались усердно и с увлечением десятками тысяч людей. Никому, однако, не приходило в голову устраивать по их поводу «дискуссии» или писать исследования об их стиле и художественных особенностях. Авторы этих произведений не претендовали и на роль учителей молодежи, как явно претендует охмелевший от комплиментов Новиков-Прибой. Кстати, Горький недавно поставил автора «Цусимы» на место: по существу, это совершенно правильно и справедливо, конечно, но вызвано-то, пожалуй, было тем, что возрастающая популярность одного великого писателя показалась опасной и обидной для другого — единственного, несравненного и величайшего. «Есть в небе солнце — к чему вам звезды!»