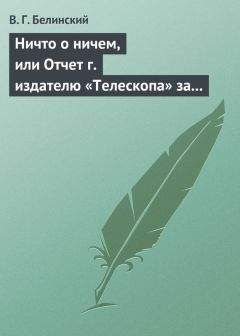Тихон Михеевич женился, и вышла прекрасная пара: жена была мала ростом и толста, зато муж был длинен и худощав; они были глупы, как нельзя больше, и муж с большим резоном мог бы пропеть этот куплет из одной старинной песни:
Фекла, ты карикатура,
Гур, нетесаный чурбак;
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак!
Женясь, наши дурачки так разнежились, что жена мужа стала называть Тишею, а муж жену Пиюшею, и вот отчего повесть получила название «Пиюши», это же слово произведено от Олимпияды, а не от пьяницы (Пиюша уже впоследствии сделалась пьяницей, когда, к немалому удовольствию своего сожителя, пристрастилась к пиву). Как любил Тихон Михеевич свою дражайшую половину, боже мой, как он любил ее! Она, была его утехою, радостью, игрушкою; она бросалась со всего размаха на его тощие ноги, прыгала ему на шею, скакала по комнате, так что дребезжали окна. Но земное счастье непрочно: рано или поздно, а должен быть ему конец, и он настал, этот роковой конец счастию нежного мужа. И что лишило блаженства доброго Тихона Михеевича: болезнь или смерть жены, чума или холера? О, нет, все не то! век будете думать, а все не придумаете; только чудотворная фантазия г. Ушакова могла изобресть такую ужасную и непредвиденную катастрофу супружеского счастия. Слушайте – и дивитесь, дивитесь, как изобретательна, как смела бывает провинциальная фантазия…
Однажды, когда Тихон Михеевич сидел в туфлях, во фланелевой фуфайке и любовался, как прыгала его ненаглядная Пиюша, а она, говорит автор, «прыгала так увесисто, что каждым ее прыжком можно было вколотить сваю на вершок», ему вдруг пришла в голову охота запищать:
– Пиюша! Пиюшечка моя! Пиюсеночик!
– Ну, что?
– Дай мне табачку понюхать, моя милочка!
– Вишь какой! лень самому встать!
– Из твоих пальчишечек мне приятнее, мой котеночек:
– Хорошо, хорошо!
И Пиюша сунула ему табаку в нос.
– Как приятно! как вкусно! – говорил Тиша, протягивая губы к толстым пальцам Пиюши, – Любишь ли ты меня?
– Люблю.
– А вот сейчас узнаем!.. А… а… а… чих!.. правда! правда!
– Ну так не люблю!
– Не любишь?.. Нет, неправда. Не чихается!
– Понюхай еще!
И Пиюша забила ему такую щепоть, что Тиша, еще не донюхавши, расчихался.
– Ха, ха, ха! Вот видишь!
– По… постой… а… чих!.. а… пос… той!.. Вот… а… чих!.. Вот я тебя!
– Я убегу!
– А я поймаю!
И Тихон Михеевич, расширив руки и ноги в сажень, начал передвигаться направо и налево, ловя Пиюшу, которая так прыгала, что стены дрожали.
– Поймал, поймал!.. Постой же, под арест тебя, под караул! Он усадил ее в небольшие кресла, или табурет, стоявший в углу.
– Сиди тут! Смирно!.. Пока я не позову. Смирно!
И, скорчившись, он начал пятиться до самой двери, приговаривая: сидеть! сидеть! – Тут он, все скорчившись, приподнял обе ладони против лица и начал манить пальцами, крича: цып, цып, цып, сюда, сюда!
На этот крик Пиюша вскочила и побежала.
– Ах!
– Что случилось?
– Ах!.. ой!..
Случилась беда, и какая беда! Вот здесь-то надо видеть всю широту, всю размашистость кисти г. Ушакова и удивляться ей! Дело вот в чем: вам уж известно, что Тиша посадил свою Пиюшу в табурет, который был с ручками, как кресла, и так как содержащее было ограниченнее содержимого, то, когда Пиюша побежала к мужу, содержащее как будто обхватило содержимое и приросло к нему. Какая картина! Дорого бы я дал, чтоб увидеть ее в натуре! О, г. Ушаков обладает изобретательным гением! Не всякому бы пришла в голову такая чудная идея!
Пиюша рассердилась и назвала своего мужа «толстолапым медведем». В дверях раздался хохот, излетавший из горла молодого человека с усами, отвратительно нахального вида. Это был Виссарион Кривошеин{19}, двоюродный брат Пиюши. Чудное лицо этот Виссарион Кривошеий, или попросту Висяша! Он злодей – что перед ним Франц Моор? в ученики не годится. Да, фантазия Шиллера должна замерзнуть перед фантазией г. Ушакова! Вы не можете представить, как я рад, что русский поэт победил немецкого. А ведь знаете ли что? одна и та же причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеина – ненависть к пороку! Висяша был облагодетельствован отцом Пиюши, который его, сироту, выучил «французскому языку и другим наукам», и отдал в университет. Висяша не учился, пил, и буянил в трактирах, за что и был исключен из университета; но нисколько не уныл от этого, а только назвал с презрением своих наставников «отсталыми». Потом он поступил в военную службу, кое-как дослужился до офицерского чина, после чего был выгнан и из военной службы за свое нахальство и дерзость. Потом обаял своими дерзкими суждениями одного помещика, который возымел высокое понятие о его достоинствах, поручил ему воспитание своих детей; но так как Висяша сделал их негодяями, то и был выгнан из дому. Эта история повторилась с ним и в другом доме. Не правда ли, что Висяша мерзкий, негодный человек? Впрочем, не удивительно, что он был таким: «Висяша судил и рядил о Фихте и о Гегеле и был так убежден в тождестве миров идеального и реального, что смело называл презренными невеждами тех, которые не понимали знаменитого тождества. В особенности пленился Висяша Шеллинговым Я». Теперь дело, кажется, очень ясно: может ли быть не буяном, не пьяницею и не нахалом человек, который читает Фихте, Гегеля и Шеллинга, рассуждает об идентитете и о Я?..
Почтеннейшие, за что такая ненависть к философии? Или – хорош виноград, да зелен – набьешь оскомину? – Перестаньте подрывать у дуба корни, поднимите ваши глаза вверх, если только вы можете поднимать их вверх, и узнайте, что на этом-то дубе растут ваши желуди…
Обратимся к Висяше. Ему нечего было есть, он вспомнил, что его кузина вышла замуж за достаточного человека, и отправился к ней. Он был принят Тишею радушно, Пиюшею тоже и, в благодарность, начал толковать Тише, что он живет для того только, чтоб жить и пр., а Пиюшу стал вразумлять, что ее муж дурак. Потом сманил Пиюшу и увез это сокровище от его обожателя, Тиша с горя умер, и пр. и пр.
Что ж за идею хотел выразить г. Ушаков своим Висяшею? А вот какую:
Мой Висяша существо не выдуманное и не заимствованное из карикатуры Гюи-де-Кари. Нет, он существует и духом и плотью, но существует не в одном лице, а в тысяче, в сотнях тысяч лиц. Гением парит он над просвещенною Европою и силится доказать, что он не более и не менее, как дух времени, представитель успехов разума новейшего и лучшего поколения.
Но что ж тут худого? Если так, то, право, Висяша славный малый, и мы не понимаем ненависти к нему почтенного г. Ушакова. Но, постойте, я сейчас найду ключ к разрешению этого недоразумения.
Висяша теперь всем недоволен, даже и тем, что солнце светит. Так, почтенный читатель, когда вы в театре, сидя в креслах, с удовольствием смотрите на пьесу и на игру актеров, и слышите, что позади вас кто-то ропщет, презрительно насмехается и говорит вполголоса, по-русски: что за мерзость! по-французски: quelle horreur! вы, не оглядываясь, знайте, что за вами сидит Висяша. Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею в душе, говорите спасибо автору, и вдруг вам приносят журнал, в котором та же книга оценена ниже поношенных лаптей, поверьте, что эта оценка сделана Висяшею.
А так вот что! Вот в чем вся беда-то! Понимаем!.. г. Ушаков теперь уж не критик, не рецензент; это ремесло не далось ему, и он оставил его; он теперь писатель, он уж не судья, а подсудимый! Конечно, чего бояться хорошему автору? Как бы ни была злонамеренна критика, но она никогда не уронит хорошего сочинения, особенно художественного. Ведь и на Байрона нападали с ожесточением, ведь и Гёте преследовали запальчиво, а все-таки Байрон остался Байроном, а Гёте – Гёте. За что ж это ожесточение против рецензентов? Не есть ли это сознание своей посредственности, ропот авторитета, чувствующего свое падение?.. К тому же, давно ли почтенный г. Ушаков был таким грозным, таким неумолимым гонителем бедного нашего театра? Давно ли он был таким неутомимым рыцарем против классиков и осыпал их, бедных, с ног до головы, картечью своих тяжело-словенских острот за неимением чисто-русских?.. Что ж это такое? Или сознание несправедливости своих прежних мнений?.. Нет! не то означает это отступничество от самого себя, это возвращение к классицизму, это покровительство посредственности; тут есть две другие причины; первая: г. Ушаков увидел, что он, в излишней запальчивости, колотил своих; вторая: он хотел написать повесть для «Библиотеки» и, следовательно, для провинции; и тут и там он, вероятно, успел. Итак, поздравляем!..
Есть еще в «Библиотеке» курьезная повесть «Беда, если б не медведь»: с этою я познакомлю вас как можно короче.
Прапорщик Рамирский влюбился в княгиню Златопольскую, прекрасную и молодую вдову. Будучи семнадцати лет, прелестная Мария вышла за семидесятилетнего скареда. Муж ее вскоре заболел, а она пред его смертью уехала в Италию. В ее отсутствие вкралась в доверенность издыхающего скелета капитанша Дарья Климовна Борщ, и вследствие ее плутней князь сделал такое завещание, что если княгиня выйдет замуж по выбору капитанши, то наследует миллион двести тысяч, в противном же случае должна удовольствоваться только ста ми тысячами, а остальные пойдут к законным наследникам. Капитанша имела очень важную причину способствовать такому распоряжению со стороны старого сластолюбца: у ней был племянник вроде Митрофанушки, и за него-то прочила она княгиню. Эта, разумеется, отказалась, взяла свои сто тысяч и очень скоро их промотала. Между тем ее любезный Рамирский возвратился из польской кампании уже поручиком, увешанный орденами и начал наступательно требовать руки княгини. Княгиня решилась застрелиться, а перед смертью задать пир на славу. Надобно сказать, что у капитанши был задушевный друг, майор Фрол Силыч Торопенко, который питал удивительную симпатию к скотам и любил их выкармливать; так выкормил он медвежонка и тайком от капитанши держал его в доме. Капитанша, напившись шампанского до несостояния держаться на своих капитанских ногах и намазав себе теки мастикою своего изобретения, растворенною в меду, легла в комнате, смежной с комнатою майора. Вдруг раздался крик: спасите! спасите!.. умираю! – В комнату ввалила толпа, а с нею и Рамирский – и что ж представилось изумленным глазам зрителей?