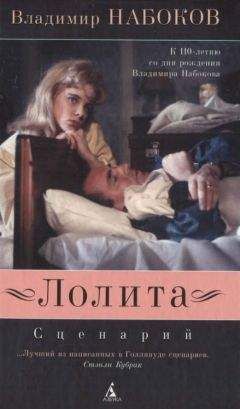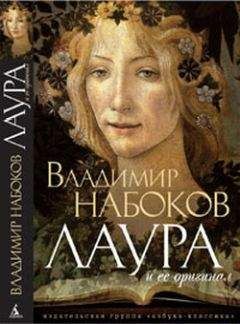В. Андреев (Роман об игроке // Новая газета. 1931. (1 марта). № 1. С. 5), В. Вейдле <см.>, А. Новик <см.>, А. Савельев <см.>, Г. Струве <см.>, В. Ходасевич <см.> — практически все критики, откликнувшиеся на "Защиту Лужина", отнесли ее к числу несомненных удач писателя. В противовес Г. Адамовичу, многие рецензенты указывали на органическую связь автора "Защиты Лужина" с традицией русской литературы. Если П. Пильский усмотрел в "Защите Лужина" «отражения Гаршина» и раннего Зайцева (Новая книга "Современных записок" // Сегодня. 1930. 29 января. С. 3), то придирчивый рецензент газеты "Русский инвалид", сделав ряд глубокомысленных замечаний по поводу «грамматической и синтаксической небрежности романа В. В. Сирина, неладной его архитектоники», в конце концов пришел к выводу, что «"Защита Лужина" — дело подлинного таланта, росток от того корня, что дал нам Толстого, Достоевского и Гончарова» (Гр. А. Д. [Краснов П.] // Русский инвалид. 1932. (22 февраля). № 35. С. 3).
Но гораздо интереснее пустопорожних рассуждений о «русскости» или «нерусскости» "Защиты Лужина" были замечания относительно философско-психологической проблематики и поэтики романа, наблюдения над стилем и художественным мировоззрением писателя, которые наметили основные подходы к изучению набоковского творчества. Особую ценность здесь представляют отзывы В. Вейдле <см.> и В. Ходасевича <см.>, где не только были даны убедительные интерпретации образа главного героя "Защиты Лужина", но и высказаны важные мысли о ключевой теме романа, которую можно определить как «гений и ущербность». Наряду с темами памяти и «потусторонности» этой теме (при всем многообразии ее воплощений и полифонии порождаемых ею смысловых обертонов и ассоциаций) суждено было пройти через все творчество Набокова — отныне, с появлением "Защиты Лужина", одного из самых известных и почитаемых писателей русского зарубежья, вызывавшего острый интерес у критиков и, что особенно важно, у читателей.[30]
Таким образом, в русскоязычный период творчества Набокова "Защита Лужина" сыграла примерно такую же роль в утверждении его писательской репутации, какую четверть века спустя предстояло сыграть «Лолите». Теперь для В. Сирина был открыт самый престижный «толстый» журнал русской эмиграции — "Современные записки",[31] что обеспечивало его произведениям широкую прессу: каждая книга "Современных записок" обстоятельно рецензировалась в крупнейших газетах русского рассеянья ("Последние новости", «Возрождение», "Руль", Сегодня"). Учтем, что из сорока одного выпуска "Современных записок", появившихся с осени 1929 г. до лета 1940 г. (времени выхода последнего номера журнала), сиринские произведения были опубликованы в тридцати восьми. О чем-то подобном не могли мечтать не только литературные сверстники В. Сирина (для которых, как, не скрывая обиды, вспоминал В. С. Яновский, «сотрудничество в "Современных записках" было обставлено всевозможнейшими затруднениями»[32]), но и многие писатели старшего поколения: «Журнал "Современные записки", как все зарубежные издания, терпел убытки: подписка не покрывала расходов. Редакция задыхалась от количества присылаемого материала при трех книжках в год. <…> На малом эмигрантском рынке с огромной конкуренцией, с излишком предложения и ограниченным спросом Чехову пришлось бы унижаться, как Ремизову, чтобы пристроить рукопись».[33]
Не менее важным, чем покорение «литературной твердыни» "Современных записок",[34] для репутации писателя были одобрительные отзывы маститых писателей, «зубров» русской литературы Куприн, отвечая на анкету парижской "Новой газеты", причислил "Защиту Лужина" (наряду с "Солнечным ударом" Бунина) к «самым замечательным произведениям русской литературы последнего пятилетия»;[35] «эмигрировавший в 1931 году Е. И. Замятин сразу же объявил Сирина самым большим приобретением эмигрантской литературы»;[36] двусмысленным комплиментом одарил Набокова М. Осоргин, предложивший «перечислить Сирина из разряда начинающих в разряд завершающих, с зачетом ему всего периода предварительного сомнения»;[37] и даже И. А. Бунин, не очень-то жаловавший «молодых» писателей, по прочтении "Защиты Лужина" не смог сдержать завистливого восхищения: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня».
Впервые — Современные записки. 1930. № 44Начало работы над повестью «Соглядатай» относится к декабрю 1929 г.[38] К концу зимы повесть была закончена, и уже 27 февраля 1930 г. писатель выступил с чтением первой главы на вечере Союза русских писателей. Именно в «Соглядатае», как позже утверждала Нина Берберова, Набоков созрел как прозаик, «и с этой поры для него открылся путь одного из крупнейших писателей нашего времени».[39]
В 1930 г., когда повесть появилась на страницах "Современных записок", так думали далеко не все критики. К. Зайцев <см.> с упорством, достойным лучшего применения, продолжал обвинять Сирина (явно не отделяя героя-повествователя от автора) в беспросветном пессимизме и даже в онтологической клевете на человечество. (Правда, как это часто бывает, именно этому непримиримому сиринскому зоилу принадлежит емкая и лаконично-эффектная формула, наиболее точно передающая квинтэссенцию довоенного творчества Набокова «Гротеск, написанный средством тончайшего и глубочайшего реализма».)
Столь же близоруко, как и К. Зайцев, отождествлял главного героя повести с автором П. Пильский, воздержавшийся, впрочем, от каких-либо оценок и ограничившийся замечаниями общего характера (изредка — отдадим ему должное — попадая в десятку): «Для Сирина мир — кружащаяся призрачность, может быть, — вертящаяся игрушка, ценные только потому, что их голоса и поблескивания находят отклик в творческой душе. Только это важно и вечно, — само по себе существование, бытие, жизнь не имеют никакой цены, облачны и едва ли реальны <…> Мир — посторонен и ненужен. Все — только видение, лунатический бред, счастливые кошмары, и оскорбитель Смурова носит подходящую, красноречивую фамилию — Кашмарин. У Сирина — одержимость, и все его герои — тоже одержимые одной страстью, какой-либо одной идеей» (Сегодня. 1930. 8 ноября С. 6).
Влиятельнейший Г. Адамович, оперативно откликнувшийся на публикацию повести, безапелляционно заявил о том, что «"Соглядатай" Сирина похож на фокус, не совсем удавшийся и потому вызывающий досаду вместо удивления» (Иллюстрированная Россия. 1930. 22 ноября. № 48. С. 22). Несколько дней спустя, уже в традиционном четверговом подвале "Последних новостей", он продолжал терзать «Соглядатая», уличая его создателя в «неискоренимом пристрастии к литературным упражнениям» <см.>.
На неоправданность главного повествовательного фокуса «Соглядатая» (виртуозную путаницу с субъектом и объектом авторского рассказа, которая на самом деле органично увязана с основным смысловым ядром всего произведения — проблемой самоидентификации человеческой личности, ее многогранности, неравенства себе самой и, тем более, стереотипам, складывающимся в сознании других людей), равно как и на «произвольность» некоторых эпизодов (каких именно — не уточнялось), указывал В. Вейдле <см.>, который тем не менее верно уловил одну из центральных тем и этого произведения, и всего творчества писателя.
Забракованная привередливыми «парижанами», повесть была тепло встречена берлинской русскоязычной критикой. В родной для Сирина газете «Руль» появилось сразу два положительных отзыва на «Соглядатая». Автор первой рецензии, С. Яблоновским <см.>, проницательно указал на то, что сиринская повесть написана «в духе Достоевского»; другой рецензент, А. Савельев <см.>, конкретизировал эту мысль, сравнив Смурова, протагониста «Соглядатая», с подпольным философом-парадоксалистом, героем-повествователем "Записок из подполья". Позже, когда «Соглядатай» появился в одноименном сборнике (Париж: "Русские записки", 1938), включавшем помимо самой повести еще тринадцать рассказов, прежде печатавшихся в различных эмигрантских изданиях, Савельев <см.> подтвердил ту высокую оценку, которую дал повести после ее журнальной публикации.
Спустя тридцать пять лет после первой публикации повесть была переведена писателем и его сыном Дмитрием на английский язык, получив название "The Eye". В апреле 1965 г. «небольшой роман», как определил жанровую принадлежность произведения сам автор, появился на страницах журнала «Плейбой». Год спустя повесть была издана отдельной книжкой нью-йоркским издательством «Phaedra». Несмотря на то, что в этот период писательская слава Набокова достигла апогея, повесть не вызвала особого резонанса в англоязычной прессе. Из всех русскоязычных произведений, получивших прописку в американской литературе, она собрала наименьшее число рецензий. Один из наиболее пылких американских набокофилов Джулиан Мойнахэн объяснял скудость отзывов тем обстоятельством, что выход книги совпал с забастовкой газетных работников Нью-Йорка.[40] «Как знать, как знать, что-то во всем этом может быть и есть…»