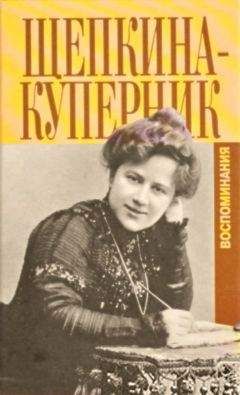Стоит только обернуть рассуждение, приводящее к мысли об обязанности работать, и мы получим вывод о правах труда. «Если я должен работать для своего обеспечения, потому что не могу и не должен воспользоваться плодами трудов моего соседа, то очевидно, что и сосед должен иметь в виду то же самое соображение. Он должен работать для себя, и я никак не хочу и не считаю справедливым отдавать ему то, что я заработал». И вот мы прямо приходим к требованиям и решениям к которым пришла Маша у Марка Вовчка и которые в известной степени проявляются во всем крепостном населении русском. «Что мне работать на других? Лучше я ничего не буду делать», – так рассуждают люди, лишенные [полных] прав на свой труд, и – [или] вовсе отказываются от труда, где можно, как Маша, [например,] или стараются употреблять как можно меньше усилий и усердия для чужой работы, как делают помещичьи крестьяне вообще [по всей России]. Отсюда мы можем сделать простой вывод о том, куда направятся крестьянские силы, как скоро они получат право свободно располагать своим трудом: как Маша, при первой вести о возможности свободы, закричала, что она работать будет, хоть закабалит себя, только бы заработать свой выкуп, так точно и целая масса, после освобождения, обратится к усиленному труду, к заботам об улучшении своего положения. Теперь ведь уж весь труд освобожденного работника – его, ему принадлежит [неотъемлемо]; значит, чем больше он потрудится, тем больше и приобретет, тем лучше будет и его положение. При таких условиях даже и временное лишение личной свободы не так тяжело. Замечательно, что Маша для приобретения свободы хочет закабалить себя: это значит, что для нее главным образом не то тяжело, что она не может делать всего, что хочет, а то горько, что она должна отречься от прав на свой труд без всякого резона, бог весть зачем. Отдавая себя в кабалу, она знает, что тут условия делаются обязательными с обеих сторон; она будет в кабальной работе, а за нее зато выплатят выкуп. [Таким образом, для нее видно здесь начало и основание ее рабства; да виден и конец, и притом конец, до некоторой степени все-таки сообразный со смыслом, так как кабальный термин рассчитывается пропорционально величине уплаты и стоимости работы закабаленного. Ничего подобного не было в том состоянии, под которым жила Маша у своей барыни: там ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни расчета – один только произвол и вследствие того полное отсутствие всяких личных гарантий и определенных прав; что захотят, то с тобой и сделают, без резона, без отчета, без ответа… Это-то всего более и невыносимо для человека, у которого хоть чуть-чуть начинает просыпаться требование справедливости, от природы присущее всем людям, но во многих заглушаемое принижением и придушением их личности.]
Таким образом, предполагая, что крестьяне получают свободу, мы видим вслед за этим, как прямой результат, – увеличение количества и возвышение качества их труда. Само собою разумеется, что мы не смеем прилагать всех вышеизложенных рассуждений, как непременного условия, к правительственным мерам освобождения, приводимым теперь к концу в редакционной комиссии. Мы говорили только о том, что должно быть вообще, по требованию логики и наблюдений над крестьянским бытом и характером; но мы нимало не хотим касаться специально хозяйственных и административных вопросов, подлежащих рассуждению комиссии, [и заранее определять возможные последствия тех мер, какие будут приняты правительством. Меры эти весьма естественно могут произвести свои особые действия, весьма различные от тех, какие мы можем предвидеть, рассуждая о деле в общих чертах и представляя только логические его определения. Но наша задача состоит только в указании на некоторые черты народного характера, а вовсе не в определении способа действий крестьянских комитетов и комиссий, до которых нам здесь совсем нет дела. Поэтому, останавливаясь на самых общих намеках на то, каким образом должна быть принята и употреблена свобода каждым простолюдином нашим,] мы теперь возвратимся к той параллели, к которой, как мы сказали, подает повод рассказ «Игрушечка». «Игрушечка» – [есть не более, как] искажение имени Аграфена, Груша, Грушечка, [но] искажение, полное грустного и тяжелого значения. Эта Груша, крестьянская девочка, в самом деле была весь свой век игрушечкою своей барышни и барыни, а барышня и барыня, [загубившие ее век,] были, в сущности, совершенно невинные, добрые создания, которые никогда бы не согласились мучить и губить людей: они могли только играть, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная в «Игрушечке», полна такой идиллии, что становится совестно сказать жесткое слово об этих господах. Ни малейшего следа какого-нибудь расчета, преднамеренности, злобы или хитрости не видно во всей их жизни, во всех их, даже самых дурных, поступках. Как они живут и что их занимает, это нам всего лучше расскажет сама «Игрушечка» (стр. 132–135).
Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, белая – только ленивая… Господи, какая она уж ленивая-то уродилась! И глянет-то она на тебя вполглаза. Всей работы у нее было, всего дела, что из горницы в горницу плавает, склонивши головку набок, и длинным своим платьем шелковым шуршит. Оживится немножко она разве, как гостьи наедут, говорливые, да веселые, да осудливые. Поднимут на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахают о городе Париже да побранят свой уезд, – тогда и наша барыня головку поднимет и заговорит себе громче… Барин поживее ее был, веселые песенки все певал да насвистывал. Говорили, что не башковат он, ну да зато смирен был. С барынею они жили согласно, и она была барыня добрая. Никого они не карали, не казнили, они и сердиться-то редко сердились. Приди кто из людей с какой просьбой к ним, – ничего, не выгонят, разве только пускать не велят, коли докучило, или пообещают, да не сделают – забудут. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вот это сидят, бывало, в гостиной; барин свистит, а барыня глазками по горнице поводит, и вдруг ей в голову пришло: «Мой друг, – говорит барину, – а ведь голубые-то обои были бы лучше в гостиной!» Барин так и вскочит горошком. «Душечка, какая мысль тебе хорошая пришла. Где у меня-то рассудок до сих пор был?» И давай себя по лбу ляскать… «Ну такого дела откладывать нечего, сегодня же в город пошлем, а к воскресенью чтобы все готово было». – «Да, да! – подхватит барыня, – приедут Анна Петровна и Клавдия Ивановна – вот удивятся-то! А уж Анна Федоровна так рассердится, что за обедом ничего есть не станет. Непременно к воскресенью, мой дружок!» И примутся хлопотать, примутся суетиться. В страхе эти дни живут: все им чудится, что карета во двор въезжает. «Ох, кто-то приехал, кажется», – говорят, а сами в лице меняются. Удивить хотят, видите, и вдруг – если б застали, что стены ободраны! А иных тревог, других забот у них, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула, – нешто безденежье или барышня захворает. А безденежье их часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковые разные платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылышком завязывал, да, бывало, иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит. «Вот день-то несчастный выдался, – вздохнет, – никак не слажу!..» И барыня к нему тут на помощь придет, и Арину Ивановну кликнут, да словно к венцу прибирают, – все около него в заботе такой, хлопотах… А уж как вырядится он – таким брындиком выйдет, пред зеркалами останавливается да так приятно на себя поглядывает и рукой все себя по щеке поглаживает…
Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они всего до ниточки каждый год по скольку раз. Мало ли на один дом шло? И к рождеству и к святой, бывало, весь обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибивает… Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду: до страсти любил он гвоздики вбивать, и, случись, что по усердию кто ему услужить поспешит, то так огорчится… Потом уж все так и знали, сами не брались никогда, а ему приготовят молоток. И правду тоже надо сказать, что уж никто так гвоздичка не вобьет: так он наловчился, что только глянет – и потрафит, куда надо гвоздику…
Поедут ли в город господа – чего они не накупят! И самоваров навезут, и сушеного горошку, а дома под самоварами в кладовой полки ломятся, горошку садовники на целый год запасают; понавезут они обои штофные, каких-то рыбок горьких в банках, табакерки с музыкой… Разносчики ли наедут – купцы хитрые, зоркие – сколько они денег оберут! «Не берите, батюшка, – говорят барину, – это оченно дорогое, вы вот себе подешевле возьмите». Барина словно подожжет: «Подавай мне самое дорогое!» Да и купит такое же самое втридорога. Еще, бывало, и сдачи не возьмет. И поглядывает на купцов бородатых: вот я вам пустил пыли в глаза! А купцы от радости даже вздыхать почнут… А как именины справляют или рождение! Пойдут тут сборы да приборы такие, – сохрани боже! И вина выписывают, и конфекты выписывают, и шаль, и чепчик барыне, и шейный платочек, и желтые перчатки барину… «Да уж, кстати, будут посылать, – говорят, – то выписать и то, и вот это б выписать», и пятое – десятое… Да так наберется, что на почту телегу надо посылать… Хоть много им утехи на именинах бывало, да много ж и хлопот, и тревог не мало: ведь совсем измучатся, пока отбудут, ходючи да думаючи тяжко: что лучше к обеду подать? да как цветы уставить? да чем генеральшу бы удивить и покойного сна ее лишить? Изморятся, бывало, словно на барщине.