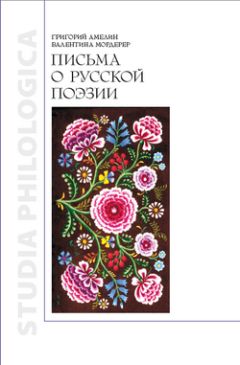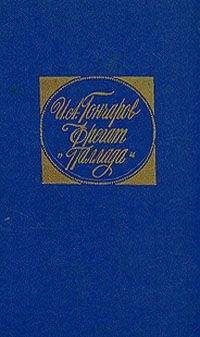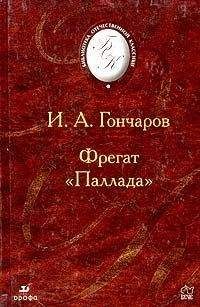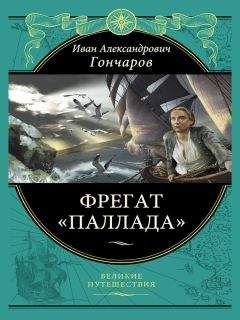Ознакомительная версия.
В обе стороны он в оба смотрит – в обе! -
Не посмотрит – улетел! (III, 102)
Но настолько же здесь имеет значение шутливая поговорка «Разуй глаза!» – взгляни, чтобы увидеть; сбрось пелену; расширь кругозор. Перед нами еще один поэтизированный рассказ о Тайной вечере, где провидящий свою смерть поэт-Христос несет людям не меч, но мир: «Тайной вечери глаз знает много Нева…» Темное имя автора – Вели-мира – Виктора Хлебникова составляет вензель-монограмму ВХ, пасхальный диктант смерти и воскрешения.
Люди прилежно приставляют к глазу монокль, еще одно веко, и совершают пасхальный ритуал – христосуются, целуются. Но только их действия больше напоминают свару, грызню, чем жесты любви и милосердия. В их остекленевших зрачках пылает пламя злобы, залпов и газовых атак. Они ослеплены ненавистью.
Остается лишь надежда на будущего читателя томов – потомка, который разберется – где свершается история, а не уходит сварливым скопом в небытие. Хлебников играет на двойном значении слова «история»: то, что было; и то, что рассказано о том, что было. История всегда – и событие, и рассказ. Образ книги и процесс чтения проходят через весь текст: «Книга войны… Потомок! От Костомарова… Имя прочтете мое… Это вы тихо прочтете о том…» Путешествуя во времени (скитаясь по годам Погодина), изучая труды историков, наследник этих книжных княжеств натыкается на примечательную веху – точку схождения и расхождения жизни и смерти: Хлебников родился в тот год, когда Костомаров умер – 1885.
Основным измерителем текста становится время, оно же и управляет словесными преобразованиями. Столетие-век (созвучный с глазным «веком») дробится на годы – лета, ядовитое имя – вех, пузырек с ядом – летально настолько же, насколько летальна «добрая старая тетя», то есть Смерть, к которой война принуждает отправиться поэта-воина. И даже темные воды Невы напоминают о реке смерти и забвения – Лете.
Велимир – это тот, кто «Велит чтить мир». Но его же имя-монограмма, ВеХа, страшней и тревожнее склянки с ядом, на которой изображены череп и кости (костомаровский словесный осколок, опять же), так как «вех» – ядовитое растение[79]. Более того, это та самая цикута, что принял Сократ. Поэтому поэт и сравнивает себя с убийственным пушкинским анчаром: «Не на анчаре вам вить воробушка гнездо». Для себя цикута – символ самопознанья, для других – смертельный препарат. В конце концов, ядовитый вех (или «бех») равен поэту, уничтожающему своим смертоубийственным зельем историческую ложь и хранящему истинную историческую память:
Знай, есть трава, нужна для мазей.
Она растет по граням грязей.
То есть рассказ о старых князях:
Когда груз лет был меньше стар,
Здесь билась Русь и сто татар.
С вязанкой жалоб и невзгод
Пришел на смену новый год.
Его помощники в свирели
Про дни весенние свистели
И щеки толстые надули,
И стали круглы, точно дули.
Но та земля забыла смех,
Лишь в день чумной здесь лебедь несся,
И кости бешено кричали: «Бех», –
Одеты зеленью из проса,
И кости звонко выли: «Да!
Мы будем помнить бой всегда».
«Бех», 1913 (II, 243)
«Участники» стихотворения все те же, но «идеологический» колорит совершенно иной. Героиня здесь все та же «цикута», но ее связь с автором подспудная, она зовется «бех» и служит лекарством, а не отравой. Кости, пропитанные ядом, бешено вопят, но не о летальности, не о смерти, а о вековой памяти. Мазь лечит от забвения, груз лет только усиливает скорбь и патриотическую злободневность. Прошлое прорастает в будущее, произрастает даже некоторое надувательство, и возвращенный земле смех восстанавливает историческую справедливость. Басня «Бех» написана до начала войны и воспевает ратные подвиги предков, поэт – ревностный поборник кровопролитных побоищ, бешеный певец-воитель русской славы. В 1916 году реальная война заставляет самого Хлебникова разуть глаза, иначе взглянуть в глаза смерти.
Ядовитая цикута становится созвучной свирели мира. Цикутой также называется род флейты, свирели. И мы оказываемся слушателями поэтического соревнования двух аэдов русского футуризма, заклинающих мир прислушаться к лире и прозреть. Один вооружен свирелью Пана, цикутой, другой – флейтой водосточных труб, флейтой-позвоночником. Поэтому Владимир Набоков отправляет своего alterego, английского писателя Себастьяна Найта на год в ученики к футуристу Алексису Пану. И не довольствуется этим. В романе «BendSinister» редактору лакейского журнала он дает имя Панкрат Цикутин, уклончиво указуя незадачливому читателю на связь имени с Сократом и цикутой. О других связях – с набоковским революционным тезкой, например, читатель должен догадаться сам.
«Веко», по Далю, – это еще и «кузовок». Но об этом как-нибудь потом.
[1] Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки: т. II: 1919-1939. М., 2001, с. 368.
[2] Николай Асеев, «поэтусторонний», как он сам себя назовет, в стихотворении «Последний разговор», обращенном к Маяковскому, уже потустороннему, напишет:
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий, слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна…
(Николай Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., 1967, с. 282-283).
[3] «Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна… Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют “заводы”, и кто там живет; но этих вопросов она не задавала и их почему-то умышленно скрыла. В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась ночью» (IV, 36).
[4] Ср.: «“Еще не звук” и “уже не звук” – вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается фортепианной игрой» (Генрих Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. М., 1999, с. 68).
[5] Андрей Белый. Начало века. М., 1990, с. 139. Слова, по Белому, избавляют от страдания. Он признавался Гумилеву: «Я переделал Евангелие от Иоанна. Помните? “В начале бе Слово”. Но “слова” по-французски – mots и “страдания” – тоже maux, фонетически совпадает, одинаково произносится. И это правильно. Ясно. В начале – mots, или maux – страдания. Мир произошел из страданий. И оттого нам необходимо столько слов. Оттого, что слова превращаются в звуки и свет и избавляют нас от страдания. “Les mots nous délivrent des maux” [Слова избавляют нас от страданий (франц.)]» (Ирина Одоевцева. На берегах Невы. М., 1989, с. 225).
[6] Белый вспоминал о Штейнере: «Вот почему и на эзотерических уроках вторую часть лозунга произносил он: “Ин…, – наступало молчание (и – сквозь глаза его виделся Кто-то), – …моримур” [In morimur – “в нем мы умирали” (лат.)], – произносил он отрывисто, строго-взволнованно, как бы наполненный жизнью того, что стоит между “ин” и “моримур”. К этому молчанию в докторе я и апеллирую; чтобы стало ясно, что переживали мы в Лейпциге и чего именно нет в изданном “курсе”. Знаю: он давал медитации, смысл которых был в жизни Имени в нас: место Имени – будто случайные буквы. Медитация над Именем – путь: доктор не был лишь “имяславцем”. Взывал к большему: к умению славить Имя дыханием внутренним с погашением внешнего словесного звука: к рождению – слова в сердце» (Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000, с. 496-497). Молчание, чреватое словом, mot, у Цветаевой: «О мои словесные молчаливые пиршества – одна – на улице, идя за молоком!» (Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. 1913-1919. М., 2000, т. I, с. 437).
[7] Мандельштам легко бы мог так сказать. В первом из его восьмистиший:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок-
Не знавшее люльки дитя
. (III, 76)
Белый писал: «Ритм – первое проявление музыки: это – ветер, волнующий голубой океан облачной зыбью: облака рождаются от столкновения ветров, облачная дымка поэзии – от сложности музыкальных ритмов души» (Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 175). Первообразный ритм дыхания – молчаливый ткач стиха. «Я ритмом дышал…» (Анненский). Ритмическая схема – лодочкой (Ç – ). Ветер вдоха и выдоха наполняет паруса, легато переходит в регату. Дыхание поэта пробуждает пространство, которое приходит ему на помощь. Дуга – форма мира и структурирующей этот мир поэтической речи:
Люблю появление ткани…‹…›
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
(III, 76)
[8] Вл. Пяст. Встречи. М., 1997, с. 110-111. «Гора божество, – писала Марина Цветаева. – Гора дорастает до гетевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора – это ‹…› моя точная стоимость. Гора – и большое тире ‹…›, которое заполни глубоким вздохом» (Переписка Б. Пастернака. М., 1990, с. 348; письмо Б. Пастернаку от 23 мая 1926 г.). То есть имя Ахматовой – богоподобная вершина, которая заполнена и держится глубоким вздохом. Только в ритме дыхания имя обладает обозримостью и полнотой присутствия. Вздох – не физиологический факт, а явление онтологии. Ритм дыхания есть ритм самого бытия. Поэтому по Флоренскому, дышать и быть – суть одно (Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 17). Розанов: «Но в моем вздохе все лежит. ‹…› “Вздох” же – Вечная Жизнь, Неугасающая. К “вздоху” Бог придет…» (II, 622). Тире здесь не орфографический знак, а онтологический оператор работы неязыковых структур, оно – зримый эквивалент дыхания, вздоха.
Ознакомительная версия.