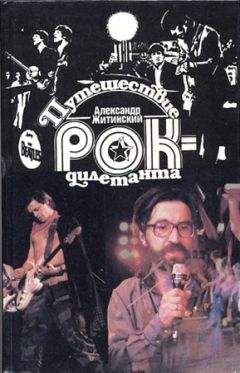…Вот тут-то последовало то важное событие, о котором мы слегка уже говорили. Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил важное дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше, по всей длине своей, двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки. Сошлись!.. У нас нет языка, чтоб описать эту свалку, этот сшиб, этот протяжный треск, это последнее борение тысячей! Всякий хватался за чашу роковых весов, чтоб перетянуть их на свою сторону. Но окончательным следствием этого упорного сражения было раздробление! Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась! Это была личная, частная вражда человека с человеком, воина с воином, и русские не уступили на вершок места. Но судьбы вышние склонили чашу весов на сторону французов. Мы вдруг стали терять наших предводителей. После целого ряда генералов, ранен и сам князь Багратион.
Видите ли вы здесь, в стороне, у подошвы высоты Семеновской, раненого генерала? Мундир на нем расстегнут, белье и платье в крови, сапог с одной ноги снят; большое красное пятно выше колена обличает место раны. Волосы в беспорядке, обрызганы кровью, лицо, осмугленное порохом, бледно, но спокойно. То князь Петр Иванович Багратион. Его поддерживает, обхватя руками сзади, Преображенский полковник Берхман. Левая рука раненого лежит на плече склонившегося к нему адъютанта, правой жмет он руку отличного, умного начальника 2-й армии, генерала Сен-Приеста, и вместе с последним прощанием отдает свой последний приказ, изнеможенный от усталости и потери крови, князь Багратион еще весь впереди, весь носится перед своими дивизиями. Видите ли, как он, забыв боль и рану, вслушивается в отдаленные перекаты грома? Ему хочется разгадать судьбу сражения, – и судьба сражения становится сомнительною. По линии разнеслась страшная весть о смерти 2-го главнокомандующего, и руки у солдат опустились (стр. 72–73).
По этим образчикам читатели могут безошибочно судить о благородной простоте и поэтической живости слога, равно как и о важности книги Ф. Н. Глинки для русской публики. Это книга народная, в полном значении этого слова, потому что, при великой важности содержания, она всем равно доступна. Теперь, когда русские уже не стыдятся, но гордятся быть русскими; теперь, когда знакомство с родною славою и родным духом сделалось общею потребностию и общею страстию, стыдно русскому не иметь книги Ф. Н. Глинки, единственной книги на русском языке, в которой один из величайших фактов отечественной славы рассказан так живо, увлекательно и так общедоступно! Но книга Ф. Н. Глинки, при больших достоинствах, не чужда и некоторых недостатков, которые долгом почитаем заметить, в надежде, что почтенный автор при втором издании своего прекрасного сочинения, издании, которое, вероятно, скоро потребуется, не оставит воспользоваться нашими замечаниями, если найдет их справедливыми. В целом его сочинения мы желали бы видеть больше едипства и последовательности в изложении события и меньше дробности и разнообразия в манерах и приемах рассказывать. Равным образом, нам очень неприятно, что благородная простота слога автора «Очерков Бородинского сражения» иногда пятнается то изысканными и натянутыми сравнениями, как, например, сшибающихся рядов с разбивающимся стеклом, потом с рабочею храминою химика, сравнениями, которые, нисколько не поясняя сущности дела, только затемняют его; то изысканными и натянутыми выражениями, как, например, приурочить вместо отнести или присоединить и других тому подобных; в одном месте мы даже встретили слово «объективный», совершенно неуместно употребленное и потому не имеющее никакого значения. Но что всего неприятнее и досаднее в «Очерках», это места, выказывающие ложный, рассудочный и внешний мистицизм, который видит таинство не в сущности идеи, а в случайных столкновениях обстоятельств, случайном числе каком-нибудь. Например, прекрасно сравнивая Кутайсова с паладином средних веков, автор подтверждает это сравнение тем, что сражение при Креси происходило 26-го же августа{27}, в которое пал Кутайсов. Потом замечает, что в Бородинском побоище участвовало с обеих сторон шесть Михаилов, как будто Михаил было имя привилегированное и число шесть сколько-нибудь относилось к сущности дела или поясняло его.
Мы сказали, что книга Ф. Н. Глинки есть единственная народная книга о Бородинском сражении, разумея под этим ее чисто литературный характер и нисколько не думая давать ей преимущество перед учеными сочинениями об эпохе XII года генералов Михайловского-Данилевского, Бутурлина и других военных писателей. Чтобы дать полное понятие о характере книги Ф. Н. Глинки, выпишем его прекрасное и поэтическое предисловие, которое может служить самою верною оценкою его сочинения:
Людям XII года.
(Вместо предисловия)Три девятилетия прошло с того дня, как отгремела битва Бородинская. Грустно перелистывать список лиц и чинов, бывших участников в битве великанов (la bataille des geants): так называл ее Наполеон. Мало осталось людей XII-го года, еще менее людей бородинских! Двадцать семь лет стоят сражения! Сколько храбрых, красовавшихся ранами XII-го года, перешли на ту сторону жизни!
И тебя не стало, наш государь XII-го и XIV-го годов, – эпох сожжения Москвы и пощады Парижа! И ты, отслужа верно и праведно своей России 25 лет (урочный срок простого воина) со скипетром и шпагою, и ты отошел к венценосным отцам своим. Мужественный, твердый, ты был неподвижным столпом, на который оперлась уязвленная Россия. Помазание горело на главе твоей, судьбы вышнего почивали над нею. И тебя не стало!..
Увлеченная потоком современности, Россия уже забыла о своем XII годе. Мало где говорили о године грустной и славной, почти забыли о Бородине!
Но вот государь наш замыслил дело, достойное времен рыцарских: он желает воссоздать битву Бородинскую на родном ее поле и обессмертить это поле сооружением памятника, достойного падших и соорудителя. И вот отчего стала оживать память о былом, воскресли разговоры о XII годе. Уже торговля, промышленность и любопытство спешат из столиц в историческое поместье государя-цесаревича, в надежде выгод и зрелища.
Следуя за общим движением, сосредоточил и я в душе моей последний огонь, недогашенный бурями жизни, вспомнил великое былое и взял оставленное перо, чтоб описать битву Бородинскую во всех ее видах, во всех подробностях. Но обстоятельства, от меня не зависящие, не дозволили этого сделать. Я не мог найти достаточных пособий для сравнений и выводов. Итак, видя себя среди двух крайностей, между невозможностию сделать, что бы желал{28}, и желанием сделать что-нибудь, я сделал что мог. Несмотря на совершенный недостаток материалов и краткость времени, старался я вызвать из памяти прошедшее и, подкрепить дело памяти собственными и других лиц «Записками», которые нигде еще напечатаны не были, я составил «Очерки Бородинского сражения».
Люди битвы исполинской! вы знаете, что такое поле Бородинское! – Дым и огонь были воздухом этого поля, где виделось истинное изображение последнего дня!.. Только огнем и кровию, если б можно употребить их вместо красок, может быть написана картина битвы Бородинской. Люди того времени! вам лучше, нежели кому-нибудь, известно, можно ли было уловить пером, даже памятью все переходы этой битвы, где тысячи, обеспамятев от грома и зноя великого, двигались в угаре сражения, с места на место, часто сами не зная куда, по указанию обстоятельств, и обстоятельства не изменялись ли почти ежеминутно?
Итак, простите мне ошибки, невольно и, может быть, во множестве втеснившиеся в мои «Очерки», которые, по слогу простому и общепонятному, желал я сделать доступными всем и каждому.
Люди XII-го года! наводите лучи славы вашей на труд мой слабый, но усердный и, смею сказать, добросовестный. Ваше благосклонное одобрение будет лучшею наградою для меня, малейшего участника в величайшей из битв!
По примеру красноречивого автора поэтических «Очерков» и мы хотим сказать от себя несколько слов нашим читателям. Может быть, многие из них упрекнут нас в том, что в критике «Очерков Бородинского сражения» большее место заняли выводы и рассуждения о народах, нежели взгляд на самую битву Бородинскую, подавшую к ним повод… Всякое явление может быть рассматриваемо с двух сторон – со стороны идеи, выражаемой им, и со стороны самого выражения идеи. Но как основание и сущность всякого явления заключаются в идее, выражаемой им, то самое выражение (факт) не может быть понятно, когда рассматривается само по себе, вне скрывающейся в нем мысли. Критика есть сознание общих законов частного явления, рассматриваемого ею: следовательно, идеи, как первообразы вечных и переходящих законов разума, должны быть ее главным и исключительным предметом, а само явление (факт) должно служить ей только средством для приложения общих законов к частному явлению. Подробности о Бородинской битве читатели найдут в самих «Очерках», следовательно, пересказывать их от лица критика – лишний труд, когда дело идет о книге литературной и общепонятной; а пересказывать их от лица автора – значило бы наполнить статью выписками и, по примеру некоторых критиков, легким образом блистать чужим умом и на чужой счет{29}. Поэтому нам хотелось дать читателям нашу точку зрения на Бородинскую битву, не как на случайное явление, без начала и конца, без причины и следствия, но как на необходимое проявление народной жизни, как на непосредственное осуществление и откровение воли божией, и тем указать на мистическую и таинственную сущность этого великого события, – а этого нельзя было иначе сделать, как отправившись от первоначальной идеи, воспроизводящей и всезиждущей из собственной творящей силы. Мы думаем и убеждены, что уже проходит в нашей литературе время безотчетных возгласов с «ахами» и восклицательными знаками и точками для выражения глубоких идей без всякого смысла; что проходит уже время великих истин, с диктаторскою важностию изрекаемых и ни на чем не основывающихся, ничем не утверждающихся, кроме личного мнения и произвольных понятий мнимого мыслителя. Публика начинает требовать не мнений, а мысли. Мнение есть произвольное понятие, основанное на поговорке: «Мне так кажется»; какое же дело публике до того, что и как кажется тому или другому господину?.. Притом один и тот же предмет одному кажется так, другому иначе, а большей части обыкновенно вверх ногами. Вопрос не в том, как кажется, а в том – как есть в самом деле, и этот вопрос может решаться не мнением, а мыслию. Мнение опирается на случайном убеждении случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе – очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на собственном внутреннем развитии из самой себя, по законам логики. Давно уже прошло то блаженное время, когда разобрать критически художественное произведение значило разобрать некоторые фразы, или удачно составленные, или погрешающие против языка; теперь безвозвратно проходит и то блаженное время, когда непризнанный критик, как бы издеваясь над публикою, объявлял, что личные ощущения – высший критериум изящного, и сказав, что то или другое сочинение «принадлежит к лучшим явлениям литературного года», что оно «ему очень понравилось», что он «многое прочел в нем с особенным наслаждением», – сказав это в десяти строках, делал десять или двадцать страниц выписок и смело, крупными литерами ставил в заглавии этих выписок громкое словцо «критика». Да, безвозвратно проходит уже пора, так сказать, мороченья публики подобными штуками. Достоинство и важность мысли начинают признаваться всеми. Что касается лично до нас, мы так глубоко убеждены, что истина не в людских «мнениях», не в личных убеждениях, а только в мысли, что если бы в опровержение этого указали на наши собственные статьи, мы скорее бы согласились в том, что или те, которым они кажутся недоказательными, не доросли ни до потребности, ни до понимания «мысли», или что, в самом деле, в наших статьях заключаются причины их недоказательности, – чем согласиться в том, чтобы могущество и очевидность истины заключались не в «мысли». Во всяком случае, «Отечественные записки» старались и будут стараться удовлетворить по возможности общей потребности идеи, предоставляя другим угощать публику «своими мнениями», если только публике в самом деле большая нужда знать, каковы мнения у сего или этого господина так называемого критика{30}.