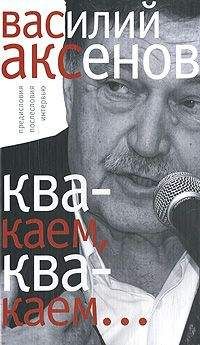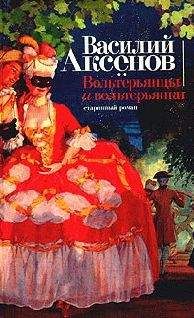В нашем классе было 21 мальчиков, даже если так нельзя выразиться по-русски. Ниже по коридору находился женский класс, в котором было примерно столько же девочек. Внешне все выглядели нормально, школяры как школяры, однако внутренняя структура класса отличалась от внешнего благообразия, отражая гражданскую иерархию странного города Магадана, «столицы колымского края».
Больше половины состава были детьми руководства «Дальстроя» и офицеров УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей). Они жили в центре города в комфортабельных каменных домах. Одна четверть состояла из детей вольнонаемного контингента, населявшего приличные оштукатуренные дома второй категории. И наконец, там была и группа детей бывших заключенных, недавно отбывших свои сроки в лагерях. К ним относился и автор этих строк. Мы жили в завальных бараках с коридорной системой.
В принципе, под крышей школы мы все были равны: питались в одной столовой, ходили на школьные вечера, вместе занимались спортом. Насколько мне помнится, никто из офицерских сынков не кичился своим социальным превосходством и в школярских стычках сын зэка мог спокойно дать по шее сыну охранника. За пределами школы, однако, это равенство кончалось. Никто из нас, «политических», никогда не был в гостях в «офицерских» домах, С другой стороны, никто из «них» не навещал «нас». Мы держались друг друга, Юра Маркелов, Юра Акимов, Юра Королев и я составляли своего рода группу интеллигентиков, мы слушали джаз по американскому радио, обсуждали приключенческие книги, смотрели «трофейные» фильмы и разыгрывали глупейшие костюмированные скетчи. В Магадане не было принято говорить о лагерях, но иногда эта тема проникала и в наши разговоры и повергала нас в сумрачные размышления о судьбе наших родителей.
Лёня Титов не принадлежал ни к тем ни к другим. Он был просто нормальным школьником, веселым, деловитым, спортивным. Мы были уверены, что он принадлежит к «вольнягам», к тому же он и жил в одном из домов «второй категории», И только сейчас, уже в 21 веке, когда он прислал мне свою рукопись, я узнал, что он был одним из нас, что его отец, чемпион страны по лыжным гонкам, оказался жертвой доноса и был расстрелян, и что мать его, тоже лыжница высокого класса, отсидела пять лет как «член семьи врага народа». Выйдя на свободу, она поселилась в Магадане и — вот один из уродливых парадоксов того времени! — стала выступать на соревнованиях за лыжную команду Магадана. В их доме никогда не говорили о лагерях. Больше всего мать хотела, чтобы ее вновь обретенный сынок был таким же, как все, нормальным школьником. И он им стал. Прочтя книгу Леонида Титова, читатель поймет, что это значит быть нормальным мальчиком по соседству с кровавым сталинским Джагернаутом. И кроме того он увидит, что даже там, в городке, опоясанном колючей проволокой, шло обычное детство со всеми его маленькими и большими радостями и огорчениями
Наш ответ Франсуазе Саган
Мой старый друг Толя Гладилин никогда не был большим любителем мемуаров. Жизненный опыт и «сокровища, заложенные в чувстве», он берег для сочинительских часов. В последние годы он стал патриархом большого гладилинского клана в Париже, а это занятие не особенно способствует сочинительству. И все-таки нынешнее поколение российской интеллигенции не хотело с ним расставаться. Многие помнили, что это именно он в двадцатилетнем возрасте (как Франсуаза Саган в том же возрасте, в том же году, в своей Bonjour, Tristesse!) поднял волну новой, послесталинской литературы.
Многие издатели в Москве предлагали ему договора на мемуары. Публике было интересно, как в конце пятидесятых и далее, в течение шестидесятых, возникали тогдашние гладилинские «хиты», как шла литературная борьба, какие люди, «ребята», его окружали и вообще, что с ним было, в частности, что привело его в эмиграцию. Он отнекивался, говоря, что этот жанр ему чужд. Наконец, под влиянием Ирины Барметовой (журнал «Октябрь») и Елены Шубиной (издательство «Вагриус») «Тень всадника» сдалась и накинула узду на коновязь.
Как-то мы с ним ужинали в кафе «Персона», что на Яузской набережной. Анатолий жаловался, что не знает, как в таких сочинениях возникает композиция. «Толян, — сказал я ему, — у тебя первая книга называется «Хроника времен Виктора Подгурского», а ты все жалуешься на недостаток композиции».
«То есть дуть по порядку, одна за другой?» — задумался он. «Ну, конечно, разве могут быть у писателя вехи важнее, чем книги?»
Когда я читал недавно в журнале его труд «Попытка мемуара», я натолкнулся на одно признание автора. Он пишет что-то о том, как в Москву раз за разом пошла наведываться Марина Влади. «Очередное отступление», — говорит он. «Любопытная мысль пришла именно сейчас, когда пишу эти строки…» Вот так и складывается композиция мемуаров: отступление наплывает на отступление, то и дело появляются любопытные мысли и расширяют картину; в частности, великолепную картину-новеллу Марины Влади. Толян уже овладел жанром и может работать с ним без конца.
Ноябрь считается самым лучшим временем в среднеатлантических штатах: солнце не жжет, но постоянно присутствует, мягко освещая пологие холмы, и вместе с прохладными бризами, будоражащими еще обильную листву титанических дерев, создает то, что, будучи извлечено из словаря, называется «киароскуро», то есть игру света и тени; светотень. Воздух бодрящий, или, как в этих местах говорят, crisp, хрустящий, в нем живут одновременно и благостная мягкость и легчайший морозец. В таком воздухе, даже и на похоронах, ощущают немое побуждение. Это желание просвечивало на лицах изрядной толпы, собравшейся в светотени дубов, кедров и платанов у подножья тяжеловесной церкви Сент-Джеймс, сложенной в свое время из кирпича, а теперь, после многочисленных десятилетий, образующих почти два полных столетия, напоминающей багровый монолит с наплывами плюща.
За парковой оградой из витого чугуна со всех сторон подходили к церкви волнистые вольеры, где паслись лошади отменных мэрилендских кровей. Слепни, чуждые сему буколическому времени года, отсутствовали, и потому лошади без всякой нервозности шевелили хвостами и гривами, как бы намеренно создавая идиллический фон для приближающейся церемонии.
Мимо собравшейся в церковном дворе толпы четко промаршировал почетный караул американских ВМС. Восемь моряков отнюдь не повторяли друг друга ни ростом, ни видом лиц: среди команды были два высоких атлета, белый и темнокожий, три девушки, представительницы трех разных рас, два обычных белых парня и еще один удививший необычно низким даже для ацтека ростом и необычной шириной плеч, изобличавших исключительную физическую силу. Все они были в парадной черной форме с нашивками разных флотских служб (позднее, на похоронах, нам объяснили, что ритуальные команды набираются с разных кораблей и базовых частей, и каждый кадровый моряк обязан уметь делать все, что положено на ритуалах, будь то похороны или, скажем, встреча какого-нибудь главы правительства), а у некоторых имелись и наградные планки (позднее, на тех же поминках ребята объясняли собравшимся вокруг дамам: эта медаль за поход в Залив, это за Сомали, а эта, мэм, строго засекречена).
Раз уж я так задержался на этой команде, следует сказать, что все свои перестроения они выполняли с отменной точностью, включая и довольно сложную процедуру сворачивания государственного флага, снятого с гроба, и вручения священного свертка вдове покойного.
Шел 2000 год от Рождества Христова. В штате Мэриленд хоронили рир-адмирала американского флота Кемпа Толли.
В нашем кругу, то есть среди друзей его русской жены Влады, его называли Никой. Он и сам так часто представлялся: «Ника, муж Владочки». В своем родовом доме в Корбет-Плейс после отставки из флота он устроился так, чтобы не забывать об авантюрной жизни под звездно-полосатым небом. В частности, переоборудовал один амбар в своего рода оперативный штаб, увешал его кортиками и лоциями дальних морей, заставил сувенирами из Китая, Японии, Филиппин, Австралии, Бирмы, Ирака и Египта. Здесь же размещалась редакция уникального журнала «Ханьпу Патруль», авторами и читателями коего были ветераны флотилии американских канонерок, где Ника еще задолго до Второй мировой войны подвизался молодым офицером военно-морской разведки. В подвале основного дома адмирал оборудовал колониальный бар с бамбуковыми шторами и экзотическими масками. Он любил костюмированные сюрпризы и порой представал перед гостями то в виде самурая с фальшивой косой, но с настоящим мечом, то советского матросика в тельнике и в бескозырке с лентами (в этом случае всегда пел с замечательной дикостью: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!»), а однажды, когда все уже сидели за обеденным столом, из Никиных комнат спустился Адольф Гитлер с чаплинскими усиками, косой челкой и в коричневатой гимнастерке зари движения (в этом случае исполнялись «Хорст Вессель» и «Лили Марлен», почерпнутые в Берлине 30-х, где наш герой, похоже, вербовал среди молодых наци шпионов для будущей войны).