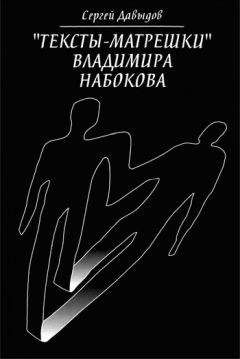Вот с этим-то литератором у Германа складываются сложные отношения.
Повесть Германа является вставным, «внутренним» текстом романа Набокова. Но отношение между «внутренним» текстом и текстом романа усложнены тем, что рукопись Германа идентична роману. Авторство Набокова проявляется лишь в разнице жанровых определений текста. Герман называет свое произведение «повестью» или «рассказом», в то время как Набоков определяет свой текст как роман.{75} Эта тонкая, но значительная разница намекает на существование двух пластов текста: пласта героя и пласта автора, хотя автор в романе себя никак прямо не проявляет. В «Отчаянии» диалогическое отношение авторского текста к тексту героя выявить трудно из-за отсутствия прямого авторского слова, которое в рассказе «Уста к устам» так резко выделялось на словесном фоне романа Ильи Борисовича.
В конце настоящей главы я попытаюсь выделить в рукописи Германа филигранный сиринский почерк, вступающий в своеобразную полемику с текстом героя.
«Отчаяние» — роман о двойниках, о двойничестве вообще. Фабула его такова. Торговец шоколадом Герман случайно обнаружил в бродяге Феликсе своего двойника. Это открытие, или, лучше сказать, откровение, наводит Германа на мысль об идеальном убийстве. Суть его плана состоит в том, чтобы выдать убийцу за жертву, в том, чтобы создать впечатление, будто убит не Феликс, а сам Герман. На самом же деле Герман, «перевоплотившись» в Феликса, будет продолжать жить в свое удовольствие на деньги, вырученные за собственную смерть от страхового общества. Но в искусно задуманном и выполненном плане убийства обнаруживается существенная ошибка. Очевидного для Германа сходства между двойниками, убийцей и жертвой, никто не видит, и полиция быстро устанавливает личность убийцы.
Тем не менее «Отчаяние» вряд ли можно назвать криминальным романом в узком смысле этого слова; задуманное убийство Герман воспринимает с самого начала как своего рода художественное произведение, как творчество. «…Я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом…» (III, 397), — передразнивает Герман автора «Преступления и наказания». В самом деле, Герман напоминает скорее художника, чем убийцу. Это Гёте когда-то о себе заявил, что нет преступления, на которое он не чувствовал бы себя способным. Убийство как искусство — повторяющееся в повести сравнение. Ср., например:
…я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы мучительно жаждал, чтобы это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми…
(III, 506)
Следовательно, после того как мир не признал его убийство гениальным, Герман пытается добиться признания как литератор, создавая художественный вариант преступления, вторичную его модель.
Рассмотрим неоконченную повесть Германа, составляющую «внутренний» текст романа.
Как фабула этой повести (убийство), так и ее сюжет (вторичная модель убийства, т. е. повесть о нем) подчиняются принципу сходства. В плане фабулы принцип сходства находит свое выражение в теме двойничества, причем доминантная роль принадлежит мотиву зеркала. По миметическому принципу последовательной зеркальной симметрии двойничество героев доведено до пародийного предела: Феликс, зеркальное отражение Германа, — левша. Центральной идее двойничества, на которой основана повесть, соответствует в сюжетном плане симметрическая композиция текста. Проанализируем эти явления симметрии сначала в плане фабульного и сюжетного времени повести.
В переводе на сюжетный уровень линейное время фабулы подвергается определенной симметрической перекодировке по принципу зеркального отражения. В результате этой перекодировки временные планы прошедшего и будущего начинают как бы отражать друг друга.{76} Их зеркальное соотношение вводит в текст прием двойной временной перспективы. Герман пишет свою повесть постфактум, и, соответственно, она выдержана в грамматическом прошедшем времени. Тем не менее он намеренно скрывает от читателя собственное ощущение ретроспективы, камуфлируя и подделывая ее под «проспективу». Иными словами, то, что для Германа является уже прошедшим, предлагается читателю как предвосхищение будущего. Так, например, описывая во второй главе желтый столб, рассказчик отмечает:
Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему.
(III, 417)
Будущее, на которое Герман открыто намекает, сокрыто от читателя. Оно будет описано лишь в девятой главе:
Наконец вдали желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров…
(III, 498)
В той же второй главе Герман описывает летнюю поездку (июнь) на место будущего преступления (март), которое он опишет лишь в девятой главе. Летняя местность преждевременно наделяется признаками будущего:
Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины… Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпеливая память. Понимайте как хотите — я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее.
(III, 418–419)
Ряд мотивов второй главы (желтый столб, кража автомобиля, междометие «гоп-гоп», кисточка для бритья и др.) восходит к главе девятой. Эта двунаправленность времени еще более очевидна при повторном чтении, когда читатель, как и Герман, обладает той же двойной перспективой déjà vu и расставляет все мотивы в соответствующие им временные координаты. Набоков во многих романах использует этот прием, и только при повторном чтении перед читателем раскрывается полностью двойная временная перспектива текста, которая создает амбивалентное синхронное сюжетное время, в котором на одном уровне находятся горизонты прошлого, настоящего и будущего.
Двойная перспектива временных планов определила и композицию повести Германа:
Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет!
(III, 471)
Согласно замыслу Германа, повесть должна была состоять из десяти глав и кончаться классическим эпилогом с happy end.{77} По аналогии с наперед сложенными для пасьянса картами, Герман строит свою повесть о двойниках по принципу симметрии. Между пятой и шестой главой проходит ось, разделяющая повесть на две равные части, причем одна ее половина является как бы отражением другой. В каком-то смысле Герман заставляет композицию своей повести о двойниках подражать ее теме. На оси, проходящей между пятой и шестой главой повести, как на поверхности зеркала, встречаются координаты симметрично распределенных мотивов. Вторая и девятая главы с зеркальной точностью укладываются по сторонам этой оси.
Последняя, одиннадцатая глава не предусматривалась Германом. Она была написана после того, как, прочитав свою законченную повесть, он обнаружил в ней роковую ошибку. Композиционно эта глава принадлежит не повести, а роману.{78}
В повести встречается также целый ряд других мотивов, которые попарно, но не с абсолютной симметрией, ложатся по сторонам этой оси. Так, например, запрятанная во второй главе в лесу бутылка водки обнаружена полицией после убийства, в десятой главе. Феликс, раздетый догола в пятой главе, снова раздевается догола в девятой главе. Револьвер из третьей главы выстрелит, по чеховскому рецепту, в девятой главе. Повесть Германа о двойниках изобилует мотивами-«двойниками», отражающими друг друга. Следуя этому зеркальному механизму композиции повести, читатель может вслед за Германом проследить «плавные, планетные пути всех предметов и начертать пунктиром их орбиты» (III, 520). Желтый столб, отмечающий поворот на пути к участку Ардалиона, к которому повесть неоднократно возвращается, служит вехой, необходимой для ориентации в топографии текста.
Одержимость Германа симметрией продиктовала и хронологию фабульного времени. Все три встречи Германа с Феликсом распределены тоже симметрично:
Месяц октябрь, лежащий посередине между маем и мартом следующего года, выступает в роли зеркала, разделяющего и отражающего временные планы фабулы. На зеркальной призме октября (осень) встречаются временные координаты первой и последней встречи двойников. По-моему, не случайно, что именно к этому времени года относится следующая картина абсолютной зеркальной симметрии:
Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. <…> Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — осень. Да, это осень».