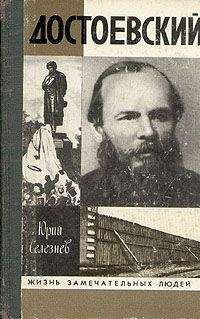С. Н. Булгаков
Русская трагедия{1}
(О «Бесах» Достоевского)
Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками «Братьев Карамазовых» и «Бесов» содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?
Как художественная форма, она должна удовлетворять требованиям, установляемым литературным каноном (каковы, например, аристотелевское единство места, времени и действия); по внутреннему же смыслу ход и развитие трагедии определяется не человеком с его личной драмой в его эмпирической, бытовой, временной оболочке, но надчеловеческим, сверхчеловеческим (или, вернее, ноуменально-человеческим) законом, неким божественным фатумом, который осуществляет свои приговоры с неотвратимой силой, Он, этот божественный закон, и есть подлинный герой трагедии, он раскрывается в своем значении Провидения в человеческой жизни, вершит на земле свой страшный суд и выполняет свой приговор. Содержание трагедии есть поэтому внутренняя закономерность человеческой жизни, осуществляющаяся и раскрывающаяся с полной очевидностью при всякой попытке ее нарушить, отклониться от ее орбиты.
Отсюда – возвышающий, а вместе и устрашающий характер трагедии: и некая высшая обреченность ее героев, и непререкаемая правда этой обреченности.
Трагедией в указанном смысле, несмотря на отсутствие внешней драматической формы, являются и «Бесы». Уже в первых его аккордах слышится неотвратимый приговор, предначертывается неизбежная гибель героев во взаимной сплетенности их судеб. Привычный масштаб, по которому часто судят и рядят о «Бесах», есть политическая расценка политических тенденций этого романа. Одни ценят в нем глубокое и правдивое изображение русской революции, прямое пророчествование о ней, удивительно предвосхитившее многие и многие черты подлинной, лишь через четверть века пришедшей русской революции; другие ненавидят «Бесы» как политический пасквиль на эту же революцию, в их глазах тенденциозный и вредный; это впечатление усиливается отдельными чертами карикатуры и шаржа, неоспоримо имеющимися (в образах Кармасинова, отчасти Степана Федоровича{2}, отдельных персонажей из революционеров и под.). Нельзя отрицать, что роману, точнее, их автору свойственны известные политические тенденции, которые могут быть развернуты и в целое политическое мировоззрение; здесь просвечивают политические симпатии и антипатии, обнаруживающиеся полнее в «Дневнике писателя». Ведь и древние трагики, как, например, Эсхил, тоже имели свои политические мнения и настроения, которые ощущались их современниками. Однако как жалок был бы тот грек, который стал бы уничижать трагедию Эсхила за «черносотенство» ее автора, и таким же вандализмом представляется нам теперь на весах политической партийности взвешивать творчество Достоевского. Ибо, если Достоевский действительно презирал в жизни ее трагическую закономерность, тогда уж наверное можно сказать, что не политика как таковая существенна для этой трагедии и есть в ней самое важное. Политика не может составить основы трагедии, мир политики остается вне трагического, и не может быть политической трагедии в собственном смысле слова. Политические ценности относятся к миру феноменального, временного, производного, трагедия же стремится проникнуть всегда к сверхвременному, глубинному, ноуменальному, хотя, конечно, извне она может облекаться хотя бы и в политические формы. И политика в «Бесах» есть нечто производное, а потому и второстепенное. Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсеры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь «Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей»{3}, и потому-то трагедия «Бесы» имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, как и все великие и подлинные трагедии, тоже берущие для себя форму из исторически ограниченной среды, в определенной эпохе. В этом смысле, хотя по внешности «Бесы» как будто и представляют собой страницу из политической истории России, в действительности произведение это к ней вовсе не приурочено, остается от нее свободно и над нею возвышается. Это отнюдь не есть, вместе с тем, исторический, «реалистический» роман из истории русской революции, даже не есть ее «Война и мир», где некоторое психологическое созерцание связано с историческою эпохой, содержится историческое прозрение. Роман «Бесы», как и все вообще творчество Достоевского, принадлежит к искусству символическому, причем символика его только внешне прикрыта бытовой оболочкой, он реалистичен лишь в смысле реалистическо. го символизма (по терминологии Вяч. И. Иванова); здесь символизм есть восхождение а realibus ad realiora{4}, постижение высших реальностей в символах низшего мира. И этот характер своего творчества сознавал и сам Достоевский, когда писал о себе в своей записной книжке: «Меня зовут психологом: неправда{5}, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой»[1]. Своими корнями душа человеческая уходит в мир иной, божественный, и реализм Достоевского простирается поэтому не на человеческий только, но и на божественный мир, т. ею является символизмом.
Итак, «Бесы» есть символическая трагедия. Но в то же время это существенно есть и русская трагедия, изображающая судьбы именно русской души. Говоря частнее, это есть трагедия русской интеллигенции, определенного духовного уклада личности. Для Достоевского, так же как и для нас, прислушивающихся к его заветам, русская трагедия есть по преимуществу религиозная, – трагедия веры и неверия. «Верую, Господи, помоги моему неверию», – вот что и в жизни и в творчестве Достоевского, а в частности, и в «Бесах», молитвенным и покаянным воплем вырывается из его души. Для него есть только одна правда жизни, одна истина-Христос, а потому и одна трагедия-не вообще религиозная, но именно христианская. Стремление ко Христу, бессилие быть с Ним и борьба с Ним бушующего своеволия – вот ее предустановленное содержание. Известно биографически, что Достоевский намечал себе написать книгу о Христе как завершение своего жизненного дела; то была, так сказать, литературная проекция всех его религиозных устремлений, мыслей и чувств. Думается, что никогда бы не написал он этой книги, ибо такие книги вообще не пишутся, это выходит за пределы литературы, мира книг. Зато можно сказать, что все им написанные книги, в сущности, написаны о Христе, и разве же он мог писать о чем-либо ином, кроме как о Нем, Его познав и Его возлюбив? Ибо любовь ко Христу в Достоевском, как и в его героях, тверже и несомненнее даже, чем самая вера в Него. И книга «Бесы», как ни парадоксально звучит это, написана о Христе, любимом и желанном русской душою, о русском Христе, и о борьбе с Ним, о противлении Ему-об антихристе, и тоже о русском антихристе. Внешним образом об этом достаточно свидетельствует и эпиграф к роману, взятый из евангельского рассказа об исцелении гадаринского бесноваго. Русский Христос – вот настоящий, хотя и незримый, непоявляющийся герой трагедии «Бесы», только Он властен изгнать «бесов», силен исцелить бесноватого. В средние века сценические представления, в которых действующими лицами являлись Христос и святые, носили название мистерий, и в этом смысле и «Бесы» есть мистерия. Однако «Бесы» имеют право на это название не только в литературно-историческом смысле, в них есть предначаток той священной и трепетной подлинности, какой должна явиться чаемая и лелеемая в душах грядущая мистерия – богодейство. И этот блистериальный характер трагедии Достоевского со всей силой ощущается и при постановке ее в Художественном театре: чувствуется, что это не обычное представление для «развлечения» жадной до зрелищ театральной публики, но нечто уже на границе сценического искусства стоящее, его перерастающее. Подлинная мистерия не может быть только зрелищем, она обязывает ко многому, не позволяя зрителю оставаться пассивно-эстетическим созерцателем, как и актеру-только лицедеем; роль только зрителя или только актера кажется уже кощунственной, и словно теургический трепет пробегает по зале… В этих высших достижениях сцены сильнее всего сказывается ее условность, искусственность и даже ограниченность искусства, поскольку оно остается отвлеченно-эстетическим. Ибо не об этом искусстве произнес Достоевский свое пророчество: «красота спасет мир». Мир спасет не театральная, не эстетическая красота, – сама она ценна и важна, лишь пока зовет к этой спасающей красоте, а не отвлекает от нее, не завораживает, не обманывает.