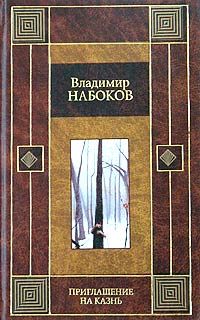Айзенберг Михаил
Ваня, Витя, Владимир Владимирович
В интервью немецкому телевиденью Владимир Набоков говорит, что «многое хотел бы сказать о моих героических русских читателях», однако же не говорит ничего. Жаль, было бы интересно прочесть. Ко времени этого интервью (1971) я уже года три был его читателем, не подозревая о собственном героизме.
Все произошло как-то сразу. Обычного этапа предварительного оповещения и заочного знакомства, в сущности, не было. Один-два раза это имя промелькнуло в случайных разговорах, но я не обратил внимания, спутав с Нагибиным.
И вот в вестибюле Архитектурного института Иван передает мне, особо не таясь, «Приглашение на казнь», западное издание, парижское — Editions Victor. В выходных данных почему-то отсутствует год издания, но по вычислениям получается шестьдесят пятый. А ко мне она попала, думаю, осенью шестьдесят восьмого. Стало быть, на доставку ушло не так много времени.
Две следующие книжки я получил уже в собственность и за сравнительно небольшие деньги, рублей тридцать-сорок. Сначала «Защиту Лужина», потом «Лолиту». Принадлежали они мне вполне условно: ходили кругами по разным читателям, знакомым и незнакомым. Это называлось «контролируемый экземпляр». Во время их коротких побывок я с огорчением замечал, как неаккуратны эти неизвестные мне читатели. Книжки чернели и разваливались. Особо популярная «Лолита» на одном из перегонов рассыпалась окончательно, была неизвестно кем грубо склеена казеиновым клеем — несколько страниц слиплись — и оделась в самодельный картонный переплет. «Твоя девочка стала совсем мулаткой, но получила обновку», — предупредил меня по телефону Иван. (Телефонные переговоры той поры заметно обогащали культуру иносказаний. А когда началась «переписка с заграницей», эта культура дошла до некоторой даже утонченности.) Потом она вовсе исчезла, та самая любимая моя книжка. По-прежнему неизвестный, но по-своему добросовестный читатель переслал мне в виде компенсации заурядную ксерокопию.
Так и хранятся у меня все русские книги Набокова — в виде ксерокопий или зарубежных изданий. Заменить их здешними изданиями нет нужды, а главное — нет желания.
Жемчужина моей коллекции — вывезенный из Анн Арбора прекрасный ардисовский альбом фотографий Набокова и его семьи, подарок издательницы. Но — странное дело — мне уже давно не хочется кому-то показывать этот альбом. Перелистывание его страниц сопровождает чувство неловкости, что ли, — как будто увидел нечто, не тебе предназначавшееся. Эти фотографии хранят какое-то свидетельство не для посторонних. И я долго не мог понять, какое именно.
В возрастном изменении лица Набокова есть необъяснимая странность. Обычно больше всего меняются черты лица: рисунок нижней его части, линии рта, подбородка… Но глаза, их выражение — все это очень устойчиво и может измениться только в конце жизни, и то не самой счастливой. Часто случается, что мальчик похож на мать, но с возрастом в нем все заметнее проступает отец. (Так происходит со мной.) Но Набоков родился с отцовскими глазами, с ними и жил лет до шестнадцати. Где-то в Америке, по пути в Америку они снова к нему вернулись — ясные мужские глаза с твердым и охлажденным выражением. Но с ранней юности и до — по крайней мере — середины тридцатых годов глаза у Набокова совсем другие, материнские — зыбкие, гибельные, рукавишниковские.
Так получается, что Набоков-человек родился с отцовскими глазами (твердая прямота, ясность, напор), а рождение писателя пошло по материнской линии. А что потом? Потом надо было спасаться, спасать книги, спасать семью (в такой последовательности? в обратной?). Кто упрекнет человека, не оставшегося на гибнущем европейском судне, тем более — в почти бесплотном мире эмиграции (о котором Набоков издалека вспоминал с такой покаянной горькой нежностью). И уж тем более в России. Разумеется, я радуюсь, видя в телевизоре, как маститый бандюган-литературовед тщетно пытается вытянуть из совсем уже старенькой, к тому же перебинтованной его сестры свидетельство о плаксивой ностальгии, которую братец якобы прятал — из дворянской гордости — от чужих. Но мы-то свои, нам-то можно, сознавайтесь же наконец. Нет, не созналась, семейная закалка сказывается. (Непонятно только, зачем она таких «своих» привечает.)
Но вовсе не все так уж разумеется. «За немногими исключениями, все либерально настроенные творческие люди — поэты, романисты, критики, историки, философы и так далее — покинули Россию Ленина-Сталина. Те, кто этого не сделали, исчахли там либо загубили свои дарования, прилаживаясь к требованиям государства». И здесь, в «Память, говори», и во вступлении к лекциям по русской литературе Набоков как-то слишком озабочен непротиворечивостью нарисованной картины, потому и сводит все оставшееся в России искусство к тем ублюдочным упражнениям, которые еще недавно проходили в старших классах советских школ. Все имена, неудобные обозревателю, не способные вписаться в «краткое резюме», с непонятной легкостью остаются просто неупомянутыми. Имя Пастернака проскальзывает сквозь зубы, но здесь это автор «Живаго», «который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты». А ведь не только Набоков-поэт часто идет след в след за Пастернаком, но и прозаик Набоков обязан ему очень многим. Например, особым, основанным на физиологической метафоре остроумием. Ср. «по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда…» («Охранная грамота») и «скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика» («Камера обскура»). Не уверен, что многого стоит и отзыв о прозе Пастернака. О Достоевском Набоков тоже отзывался сами знаете как, но в «Подвиге» очень много «Игрока»: вся любовная линия с другом-англичанином и вздорной гордячкой, которая, как выясняется, именно героя-то и любит.
Происхождение набоковской строчки «Какое сделал я дурное дело» слишком очевидно, чтобы стать моим личным открытием. Это, конечно, «Что же сделал я за пакость», переведенная с русского на американский русский. Неплохая шутка, но что-то от нее не весело.
Как будто это не он, кто-то другой сказал: «И когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира… Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой».
Иногда появляющиеся в разговоре о Набокове иронические обертоны были бы совершенно невозможны лет десять назад. Я думаю, что и сейчас они связаны с повторным набоковским кругом — с американским Набоковым. В Америке родился какой-то другой писатель. Конечно, он похож на первого и прочно связан с ним преемственностью литературных навыков. Но это второй круг — писание по писаному. Кроме «Лолиты», конечно, и — отчасти — «Пнина».
Американского происхождения и кодекс (или комплекс) «чемпиона мира». Ну, не смешно ли. Упорная и по лучшим рецептам работа с публикой и литературной общественностью, на удивление туповатой. С конца пятидесятых — несколько маниакальное, но очень аккуратное выстраивание личного мифа. Память, говори, да не заговаривайся. Но поза олимпийца как раз и доказывает небожественное происхождение.
Чары «Ады» показались сильнодействующими, но уже по-своему, по-набоковски патентованными. «Смотри на Арлекинов», на мой взгляд, довольно печальный итог литературной деятельности автора, по всем признакам гениального. В сущности, это особый набоковский («nabokovi») подвид «нового романа»: писатель способен писать только о своих уже написанных книгах. Прочее его, в общем, не интересует. Полностью выработанная порода.
Такое впечатление, что где-то после сорока (то есть после переезда в Америку) Набокова интересовали только собственные книги. Остальные переживания — в том числе возрастные — остались за бортом. За бортом парохода «Шампелен», покинувшего Францию в мае сорокового.
Здесь и остановился писательский возраст Набокова. Должно быть, повлияла и атмосфера американского кампуса с ее как-никак несколько насильственной моложавостью и стерильной бодростью.
Виртуозные, но уже привычные трюки поздних набоковских романов приводят читателя со стажем в состояние некоторой меланхолии. Только великолепный, великий дар пересмешника не тускнеет. Юмор Набокова поразителен. Его можно было бы назвать черным, но этому мешает невероятное изящество и — добродушие, что ли. А точнее, чернота приобретает здесь вовсе не свойственную этому цвету прозрачность. И уже почти неразличимые атомы иронии вошли в общий состав языка Набокова, особым образом тонировали его.
Вот этот тон по крайней мере четверть века растворяется в нашей словесности, угрожая стать просто унифицированным «хорошим тоном» эссеистики. Но пока ничего не выходит, интонация не теряет личной окраски.