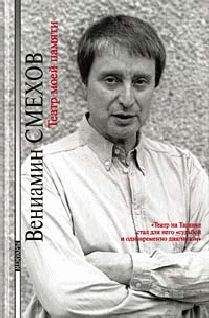Кириллина Лариса
Детство в мегаполисе, или записки современной матери
Эссе
Plusquamperfectum и Futurum
Моему сыну почти уже десять. Мы с ним настолько разные люди, что просто диву даешься. Странно, что мы еще как-то находим общий язык. И дело не в том, что я женщина, а он, пусть маленький, но мужчина. Мы принадлежим не просто к разным поколениям, а к разным эпохам. Или, если угодно, к разным цивилизациям.
Для меня большой город всегда был чем-то сугубо внешним, не имеющим никакого отношения к моему душевному миру. Меня всегда влекло на природу — в лес, к морю, в горы. На худой конец, в сады и парки, которых в Москве, к несчастью, не так уж много, и расположены они на окраинах, куда не всегда легко доберешься. Я, кстати, еще помню старинную Москву, где даже в центре (Таганка, Даниловка, Лефортово) стояли деревянные бревенчатые дома с резными наличниками, палисадниками, голубятнями и курятниками во двориках. Зимой между рамами в этих домиках выкладывали для утепления пышную вату, украшенную блестками фольги или конфетти. Где сейчас такое можно увидеть — может быть, в подмосковных деревнях или в маленьких городах? В Москве уж точно — нет. Исчезают даже уютные каменные особнячки посленаполеоновской постройки: они рушатся от ветхости, их безжалостно сносят, лишают души, оставляя в лучшем случае только фасад и заменяя нутро новоделом…
Моя первая учительница музыки, незабвенная Татьяна Сергеевна, родилась в 1905 году и прекрасно помнила дореволюционную Россию. Мир мечтательных гимназисток и благородных офицеров, интеллигентных священников и семейных собраний в сельских усадьбах, где обязательно звучал рояль и читались вслух стихи, был родным для нее миром, который она сумела сохранить и подарить мне — выросшей в «хрущобе» среди совершенно советского быта. Вероятно, благодаря общению с людьми этого поколения моя память оказалась обращенной вглубь, и мне было изначально понятно и близко то, что нынешним молодым кажется заумным plusquamperfectum.
Мой сын — другой.
Дитя убранистической цивилизации.
Его время — praesens.
Или даже futurum.
В первые недели после рождения он, вместо прогулки, спал на лоджии. Вместо шороха листьев и птичьих посвистов (впрочем, на исходе лета птицы уже не поют) он слышал змеиный шелест шин, хищное рычание заводившихся моторов, визгливый скрип тормозов у светофора на перекрестке, вопли охранных сигнализаций, завывания милицейских и медицинских сирен… Когда я начала вывозить его в коляске, мы гуляли в ближайшем сквере — красивом, но безнадежно хиреющем островке недобитой природы, окруженном потоками постоянно куда-то мчащейся техники. Однажды я с изумлением наблюдала в этом скверике стайку свиристелей, лакомившихся осенней рябиной. Но с тех пор ничего похожего не случалось. В верхнем ярусе хозяйничали вороны, в нижнем — собаки из окрестных домов. Впрочем, ни хриплое карканье, ни взрывы лая не могли соперничать с неизменным basso continuo — глиссандирующим звуком шин, звоном трамваев на поворотах, электрическим гудением и щелканьем троллейбусов, разноголосыми сигналами автомобилей…
Таким предстал этот мир моему ребенку, рожденному на исходе XX века. Другого он не знал.
И начал, как мог, обживаться в этом.
Машины, или вторая природа
Сказки и мультики про животных, плюшевые и пластмассовые игрушки, цветные картинки с изображениями хитрой лисицы, злобного волка, прыткого зайчика — всё это не производило на моего мальчика почти никакого впечатления.
Иное дело — машины. Однажды я застала годовалого малыша за странным занятием: он с сердитым пыхтением загребал ручкой по странице картонной книжечки, на которой красовались несколько ярко нарисованных грузовиков. Ему хотелось взять игрушку, и он не понимал, почему она не берется. Грань между реальным предметом и его изображением была недоступна его пониманию. Всё это напоминало известный анекдот о греческом художнике Апеллесе, к картине которого слетались птицы, чтобы клевать виноград. Мне-то раньше казалось, что эта история — вымысел. Оказалось — вовсе нет. Чуть позднее Юрик примерно так же пытался взять с картинки ветку смородины. Но машины ввели его попросту в раж. Они окружали его с первых месяцев жизни, он видел их каждый день, он знал, что бывают очень большие, которые ездят по улицам, а бывают маленькие, которыми можно играть; всё было четко и ясно, пока он не столкнулся с образом очень точным — но нематериальным.
Тут меня осенило: современный городской ребенок не реагирует на традиционные сказки про животных потому, что они для него — полностью вне зримой и осязаемой реальности. Сколь угодно правдиво нарисованный медведь, петух или козлик для него — такая же абстракция, как «Черный квадрат» Малевича. Последнее, пожалуй, даже понятнее, поскольку может вызвать ассоциации с черной коробкой, с раскрытой дверью в темную комнату или ночным небом за оконным переплетом.
Эти дети так далеки от нас, прежних…
Мне рассказывали, что когда я, маленькая, впервые увидела полную луну, я сильно дивилась и повторяла: «Люна, люна!». В аналогичной ситуации мой сын, поднесенный к окну, твердо констатировал: «Лямпа!». Кому-то радужные оболочки мыльных пузырей видятся дивными, пусть и эфемерными, сокровищами; мой Юрик, купаясь в мыльной пене, с восторгом заявил: «У меня вся вода в лампочках!»
Наша цивилизация для него равна природе, естественной, изначально данной, окружающей среде, частью которой он себя с удовольствием ощущает.
Такое мировидение явно не рассчитано на традиционную художественную продукцию, по инерции предлагаемую нынешним детям — всем этим сказкам про зайчиков, ёжиков, муравьишек… Сказок же для нынешних городских детей, мне кажется, еще не написано. Или они мне не попадались. О чем говорить, если до сих пор художники, желая изобразить в детской книжке поезд, непременно рисуют паровоз, хотя никаких паровозов на наших железных дорогах давно нет!
Все классические русские сказки создавались еще в XIX веке (ну, в начале XX, однако людьми, еще помнившими недавнее прошлое — Пришвиным, Бианки, Чуковским). Тогда не только каждый деревенский ребенок, но и большинство городских малышей хорошо представляли себе, как выглядит заяц, петух, журавль, цапля, лиса, волк и даже медведь.
Сейчас на обычных животных, живших ранее рядом с людьми, можно посмотреть разве что в зоопарке. Но там все звери за сеткой и за решеткой, и какое уж там наблюдение за живой природой среди гама, шума, толкотни и чужеродных запахов… Зоопарк, кстати, способен спутать все представления малыша о родной и неродной природе: рядом оказываются пони и зебры, слоны и белые медведи, верблюды и павианы, удавы и лебеди… Всё так странно и непонятно.
Мой сын попросился в зоопарк один раз. Больше его туда не тянуло, как и меня.
Зато машины… О, машины!
Я боюсь их и ненавижу. Иной раз читаю какое-нибудь фэнтези только для того, чтобы хоть немного побыть в мире без машин, где ходят пешком или ездят верхом. Мне трудно переходить улицы: я не могу рассчитать траекторию движения этих чудовищ, если они едут на меня сбоку. Фары, уставленные на меня, парализуют мою волю, как удав кролика. Громкий гудок ввергает в панику, заставляя метаться как ошалелое животное. Я ревностно соблюдаю все правила перехода улиц, но, поскольку московские водители столь же ревностно их нарушают, вольно разъезжая по тротуарам, игнорируя «зебры» и чихая на пешеходный «зеленый», жизнь в этом городе для меня давно превратилась в ад.
Мой сын любит этих монстров до обожания.
В раннем детстве для него вообще не существовало ничего, кроме машин. Почему-то, будучи совсем маленьким, он называл их не «бибика», не «масиня», а «нана». «Нана» — это было святое, располагавшееся где-то почти рядом с «мамой».
Он провожал каждую долгим, тоскующе-оценивающим взглядом (наверное, мужчины так смотрят на недоступных, но соблазнительных красавиц). Он помнил каждую «в лицо». Он безошибочно разбирался в моделях и марках. Правда, долго говорил «Месердес» вместо «Мерседес», «Хвостваген» вместо «Фольксваген» и «кипап краничевый» вместо «пикап коричневый».
Помнится, шли мы по улице, и было ему года четыре. Мимо пронеслась машина. Я даже не обратила внимания. «Вольво проехала», — сказал он. Я изумилась: «Откуда ты знаешь?!» Читать он не умел, разглядеть эмблему у машины, показавшейся мельком в профиль, было невозможно. «А у нее выхлопная труба изогнутая», — со знанием дела изрек ребенок.
Если мы выходили погулять и видели хозяина, ремонтирующего автомобиль — прогулка шла насмарку. Оторвать ребенка от этого зрелища оказывалось невозможно. Обычно автовладельцы нас не гнали, но и в беседы не вступали — пока малыш не изрекал что-то вроде: «Мам, смотри, «москвич» — а обрешетка радиатора у него от «жигуля»!»… Или со знанием дела комментировал наличие «чужих» молдингов (я долго не знала, что это вообще такое). Ошарашенный дяденька, как правило, ронял гаечный ключ, и у двух мужчин завязывался профессиональный разговор, в котором я играла роль фонарного столба — не мешает, и ладно.