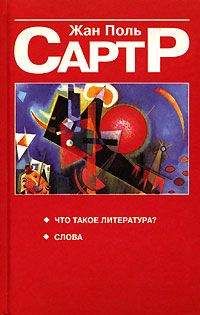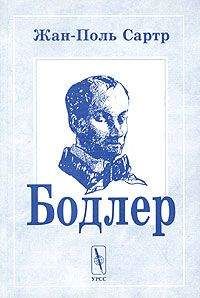Сартр
Попутчик коммунистической партии
Сартр: Думаю, я должен начать с 1936-го. В то время я не увлекался политикой. Это значит, что я был либеральным интеллектуалом "республики профессоров", как в то время иногда называли Французскую республику. Я полностью поддерживал Народный Фронт, но мне никогда не приходило в голову голосовать [за них] для придания решающего значения своим мнением. Это вряд ли это позволительно, если подходить к вопросу рационально. Но когда идеология терпит крах, оставшиеся убеждения заставляют задуматься о магическом аспекте. Что все еще оставалось для меня — принципы индивидуализма. Я чувствовал, что меня привлекают толпы, которые создали Народный фронт, но я не совсем понимал, что я был частью этого, и что мое место было среди них: я видел себя одиночкой. Позитивным элементом этого была смутная антипатия к всеобщему избирательному праву, и неясная идея, что голосование никогда не репрезентирует конкретное намерение человека. Только намного позже я понял, что беспокоило меня в идее всеобщих выборов: они могли служить только представительной демократии — надувательству.
Потому я оставался бездействующим до 1939-го, ограничиваясь писательским ремеслом, но при этом полностью симпатизируя левым. Война раскрыла мне глаза: я прожил период с 1918 по 1939 как если бы это был рассвет длительного мира, и я увидел, что на самом деле это было приготовлением к новой войне. Что касалось милого чистого маленького атома, которым я себя считал, то могущественные силы завладели им и отправили его на фронт, не спрашивая его разрешения. Война на всем ее протяжении, и особенно мой плен в Германии (из которого я сбежал, выдав себя за гражданского) стали для меня обстоятельством длительного погружения в толпу, которую, как я считал, я покинул и от которой я на самом деле никогда не избавлялся. Победа нацистов полностью опрокинула все мои представления, которые все еще вдохновлялись либерализмом. Кроме этого, политический долг настиг всех нас и в тюремном лагере. Несколько человек, такие же заключенные, как и мы, намеревались объединиться под эгидой французского фашизма. С того момента мы оказались перед лицом политической реальности, которой всегда так хотели избежать. Нам пришлось бороться с немецкими и французскими врагами во имя демократии. Но то, что мы защищали, больше не было либеральной демократией.
По возвращении в Париж после девяти месяцев плена я пытался — все еще убежденный в суверенной силе индивида — создать группу сопротивления под названием "Социализм и свобода", которая достаточно ясно указывало на принципиальную заинтересованность, но которая, как многие другие малые группы того времени, состояла только из мелкобуржуазных интеллектуалов. Мы не выполняли тяжелой работы; главным образом мы писали листовки. Когда СССР вступил в войну, мы намеревались заключить альянс с коммунистами. Один из нас установил контакт с ними в университете — опять же, с интеллектуалами. Они связались с высшими эшелонами Французской Коммунистической партии (PCF) и принесли ответ: "Сотрудничество с ними — вне обсуждения; Сартр был вскормлен нацистами, чтобы проникнуть в движение сопротивления и шпионить для немцев". Это недоверие коммунистов раздосадовало нас и заставило осознать свое бессилие. Немного позже мы самораспустились, но одна из нас была арестована немцами: она умерла в ссылке. Испытывая отвращение, я ничего не делал в течение восемнадцати месяцев: был профессором в Lycйe Condorcet.
В конце этого периода со мной связался один старый друг-коммунист, который предложил мне вступить в CNE (Comitй National des Йcrivains — Национальный Комитет писателей), который издавал нелегальный журнал, Les Lettres Francaises, и я выполнял ту работу, которую можно было ожидать от писателей, отрезанных коммунистической партией от вооруженного и от массового сопротивления. Мое взаимодействие с компартией началось только в начале 1943-го. Для начала я спросил у них, не боятся ли они выдать шпионскому выкормышу нацистов имена членов сопротивления, входящих в CNE. Они рассмеялись, сказав, что это было недоразумение, и что все разрешится. И в самом деле, больше ни один коммунист Парижа не распространял клеветнических слухов обо мне. Тем не менее, в свободной [от оккупации] зоне среди коммунистов ходил черный список писателей-коллаборационистов, в котором фигурировало и мое имя. Я разозлился, и меня убедили, что это была ошибка, и что этот список больше никогда не появится с моим именем. Думаю, именно в нем было дело. С момента первого взаимодействия я помню собрания по установленным датам в доме Эдита Томаса. О них много не расскажешь, кроме того, что мы издавали Lettres Franзaises, в котором я написал несколько статей и редактором которого был Жан Полан. Мы не делали ничего практически значимого. Больше всего я чувствовал, что нас намерено изолируют. Это было особенно заметно во время сражений Освобождения. Многих из нас просили принимать в этом активное участие, направляя при этом охранять Comйdie-Francaise, который, естественно, никогда не подвергался атакам. Тем не менее, целый день длилось сражение вокруг Place de la Thйatre-Franзais, но только не для нас, которых направили работать няньками.
После Освобождения компартия полностью изменила отношение ко мне: Les Lettres Franзaises нападали на меня, как и Action (менее воинственно, но более коварно). Я приписываю этот перелом тому факту, что я стал известен, особенно как автор "Бытие и Ничто", что могло вызвать только их неприязнь. Один из лидеров сказал, что я только тормозил поступление молодых интеллектуалов в партию. Наступил момент настоящего замешательства: это был период, когда я мог извлечь уроки из того, чему меня научило Сопротивление, которое, как мы все знаем, значительно склонилось к левым взглядам и которое, в тот самый момент, начинало разоружаться Де Голлем. Что до меня, я бы стал убежденным социалистом, но анти-иерархичным и либертарным, то есть я выступал за прямую демократию. Я точно знал, что мои цели не совпадали с целями компартии, но думал, что некоторое время буду идти той же дорогой. Этот внезапный перелом меня полностью дизориентировал.
А затем был мой журнал Les Temps Modernes. Он еще не был политически активным, но я искал разные идеальные формы исследования, позволяя себе продемонстрировать, что любая социальная реальность одинаково отражает, хотя и на различных уровнях, структуры того общества, которое ее породило, и что в этом отношении любое происшествие так же наполнено смыслом, как и то событие, которое, по существу, являлось политическим в прямом смысле слова. Я сейчас переформулировал бы это так: все является политическим, то есть, все ставит под вопрос общество в целом, и делает его предметом спора. Это была отправная точка Temps Modernes. Это с необходимостью означало занятие политической позиции (но не в смысле вступления в политическую партию, а скорее в смысле определения ориентиров своих поисков), и я дал полную свободу Мерло-Понти в области политического определения позиции журнала. Он занял ту же позицию, что и многие французы. Она состояла в уповании на Социалистическую партию (PS) и иногда на MRP, которая смотрела в разные стороны и не могла восстановить отношений с коммунистами. Например, он считал, что Права Человека в нашей буржуазной республике были абстрактными и пустыми, и рассчитывал на то, что влияние компартии, к которой прислушивались две другие партии, заставит их придать этому некое общественное содержание. Лично я не делал ничего значительного на политическом уровне, но я его одобрял. Эта позиция преобладала в журнале в период 1945-50-х. В результате коммунисты, хотя все еще не доверяя Мерло-Понти, относились к нему лучше, чем ко мне. Но это восстановление отношений PS и MRP с компартией было запятнано с самого начала, потому что предполагало трехпартийное правительство. Первый разрыв произошел во время волны забастовок, которая заставила компартию уйти из правительства. С этого момента, будучи в оппозиции, компартия усилила свои позиции, в то время как Социалистическая партия, двигаясь в противоположном направлении, стала левым крылом правых. И люди вроде нас, которые считали себя способными внести вклад в восстановление моста между компартией и партиями в правительстве, оказались между двумя огнями. Наша позиция оказалась несостоятельной. Мерло-Понти и подумать не мог, чтобы протянуть руку к компартии, если только она не поддерживала правых.
После этого разрыва было три возможности: сблизиться с компартией, сблизиться с PS-MRP, из которых состояло правительство, или уйти из политики. Ухудшив ситуацию, в это время произошло первое столкновение, я имею в виду войну в Корее. Мерло-Понти был этим очень потрясен, и он мне сказал: "Пушки заговорили. Нам остается только заткнуться". Он воспринял сообщения американских агентств как правдивые, отдалился от Партии, и выбрал второй вариант решения. Он все больше отдалялся от нас. Я, тем не менее, выбрал первый вариант: я сомневался в тех известиях, которые он воспринял серьезно. Прежде всего, в то время я считал компартию органичным представителем рабочего класса. Фактически, из левых больше никого и не было. Я не понимал, что демократический централизм и иерархическая структура аппарата коммунистической партии были одним и тем же; даже при том, что она стремилась к голосованию и членству рабочих, ее политика никогда не определялась снизу, только сверху.