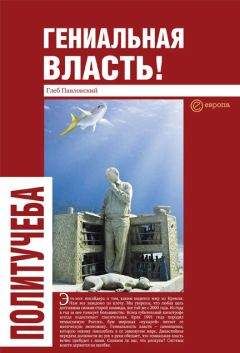Ознакомительная версия.
Деньгами МВФ заливали российские ядерные активы и ракетно-пусковые шахты. Команда Ельцина прекрасно сыграла на ядерных страхах США. Ядерный страх и был реальным обеспечением кредитов МБ и МВФ.
Боялись не пуска ракеты в направлении США — боялись выхода расщепляющихся материалов, кадров и ноу-хау российских ядерных сил на рынки третьего мира. Как это сделали Пакистан и Северная Корея для Ирака, Ливии и т. д.
Тогда не было обвинений России в petrol state. Но едва ли это была респектабельная форма получения денег. Ядерное запугивание — очень плохой залог. Чтобы продолжать извлекать из него выгоду, стране пришлось бы нагнетать страхи (с риском разделить судьбу Саддама Хусейна). Шантажируя США своей невменяемостью, Москва теряла способность контролировать территорию и место на мировых рынках. Ликвидность России целиком зависела от западных займов, но МВФ не бездонен, и не бездонно терпение стран-руководителей.
Итак, Российская Федерация давно ищет путь простого извлечения ликвидности из внешнего мира. Этот поиск определил мышление и построение российской власти. Оставаясь нерешенной, задача перешла к Путину. Он искал надежную схему построения государства и его финансирования. Искал вместе с коллегами по команде, мастерами построения коммерческих и посреднических схем. Вместе с низкими ценами на нефть Путин 2000 года получил на руки советский нефтегазовый комплекс, но тот был крайне неоднороден.
Представим, что Путин решился бы реализовать вариант Чавеса или нефтяных диктатур Центральной Азии. Ему пришлось бы строить неустойчивую диктатуру в очень неудобном месте. Petrol state — это не только популизм, основанный на легких доходах, но и содержание государственного аппарата, силовых структур с подконтрольностью их комплекса тем, кто торгует нефтью. Путину пришлось бы выбирать между деньгами на репрессивный аппарат и деньгами на народ. Денег и на то и на другое не хватило бы — государства не было вовсе, а страна велика, мы не Казахстан. Ему пришлось бы срочно профинансировать контроль над территорией — для чего отсутствовали кадры и средства. Остатки советской машины были слишком слабым пунктиром реальной власти.
А без контроля над территорией нельзя строить petrol state — сразу возник бы спор, чья это нефть и чьи доходы. Доходы надо было пустить внутрь системы, не теряя их целиком. Погрузить предательски ненадежную региональную бюрократию в море денежных выгод и предоставить ей строить власть — отняв, однако, у нее всякую финансовую самостоятельность.
Решить эту задачу в тогдашней России можно было лишь танками. Путин решает ее иначе — бюджетными трансфертами, так устроенными, чтобы коалиция выгод в целом совпадала с местным истеблишментом. Для этого средства должны были быть значительными и регулярными. Губернаторы не поверили бы разовой премии. Они должны были увидеть, что перед ними открывается перспектива. Ведь проблемой регионального истеблишмента была и лояльность населения, им надо было что-то дать; а это «что-то» откуда-то взять.
Схема Путина давала им такую возможность. Местные политические вожди получали в свои руки — намного раньше, чем это могла обеспечить местная экономика, — инструмент умиротворения масс, а с другой стороны — личной выгоды. Два эти фактора так славно сцеплялись между собой, что со временем склеились намертво. Появился тип политического тяжеловеса, уверенного, что при поддержке федерального центра он всегда сможет кормить население и, что немаловажно, в общем потоке ресурсов получит и свою львиную долю.
Принципиальное отличие России от нефтегосударств там же, где и формальное сходство, — в слабости государственных институтов: институты России действительно слабы, слабее некуда. Это так часто повторяли, что уже не спрашивают — действительно ли эти институты находятся там, где висят их вывески? Не действуют ли реальные институты в совершенно других местах? Можно ли назвать авторитарным политический строй, где центральная власть не производит авторитаризма, а является его потребителем? Наш авторитаризм симулируется местными бюрократиями. Они изображают покорность, и возникает чувство, будто власть чрезвычайно сильна. Ведь если не споришь с силой, значит, ее боишься, а раз боишься, значит, она сильнее.
Сила Путина производна от дисциплины, но не он сам и не центр дисциплинировал эти режимы. Путин приобретает у них знаки покорности, имеющие точную цену в деньгах, в межбюджетных трансфертах с широкими взглядами на их целевое использование. Губернатор, который завел собственный бизнес — молодец, он делает то, что надо; это не коррупция. Власть, конечно, приказывает местным боссам, но не раньше, чем выяснит, что они на самом деле исполнят. И только уяснив последнее, отдает приказ.
Так нефть и газ создали место для централизованного контроля — теневого, но действенного. Банки и финансовые центры у нас не места, где финансы аккумулируются, а места, где в финансы конвертируют связи с полезными людьми. Центр не может ничего навязать, у него нет таких сил, он вынужден торговать, что-то продавая. И центральная власть продает — первым нефть и газ, вторым участие в доходах и выгодах, а третьим, что, возможно, всего важнее, продаются связи — связи, влияющие на власть и ею самой являющиеся.
Власть, выступая в роли суверенного (и безальтернативного) участника рынка, продает нефть и газ как эманацию ее тождества территории.
Но это не petrol state.
Наша власть не диктатура, она не хочет ничего запрещать. Напротив, мы со всеми хотим договариваться. Мы не чужды идее норм и границ власти. Но мы будем сами устанавливать эти нормы, оставив за собой право диктовать их другим. Едва начинаем бороться за соблюдение норм, как появляется закон о борьбе с экстремизмом. Закон резиновый, и действует по договоренности с экспертами, которым заплатили.
Образцом «договорной недоговороспособности» стал тандем. Тандем — непрозрачное пространство никому неведомых договоренностей, на которые все, однако, ссылаются. Он не может ни изложить позицию, ни выступить партнером по переговорам. «Тандемы» — это политические «черные дыры» России, они недоговороспособны в принципе.
Общественный договор часто возникает при неблагоприятных условиях. Когда никто не может решить вопрос односторонне, у сторон есть повод договориться — как было с делом ЮКОСа в 2003 году. Договорились. Михаил Ходорковский сел, а миллионеры стали миллиардерами. Из Ходорковского набили чучело для народа, а бизнес запугали народной нелюбовью, превратив ее в ресурс власти.
Маньяк ВЛАСТИ
С арестом Ходорковского общественный договор 2003 года стал договором о распределении страха в умеренной дозировке. Он остановил дальнейшее сползание власти к репрессиям. Но то, что казалось несущим в себе потенциал договоренности государственных сил, превратилось в орудие одной из сторон.
Всякая договоренность или реформа превращается у нас в ресурс власти. Сама ее интенсивность превращается в новую атмосферу, и лояльный участник общественного договора сосуществует с гиперактивным субъектом, представляющимся «государством». Но мы не государство, мы — центр угрожающей активности.
Вообще-то где страх, там что-то спрятано. Но что прячет наш страх? Страх перед теми, кто практикует назначение норм и дозирует их интерпретацию. Страх гиперактивной власти, властистахановца, непрерывно (и заново) придумывающей для всех «Государственность». Та ничему не дает утрястись даже на короткий срок. Разговор о стабильности? Стабильности нет — из-за массы людей, втянутых в гиперактивность; и эти люди опасны.
В западных фильмах часто изображают вторжение маньяка в дом. Там это плохо кончается почти всегда. Маньяк еще ничего не сделал, а соседство меняет атмосферу. В любой момент он может неадекватно среагировать, и неизвестно, к чему еще нужно быть готовым. Задача жильца — отодвинуться, и он подсчитывает число дверей и лестниц между ним и пришельцем. Запор или стальная дверь вдруг превращаются в ценность.
Бизнес вечно ведет поиск защит и страховок от маниакальной власти. В конце концов он просто сливается с ней — и это единственно верная стратегия. Ведь за условным круглым столом окажется все тот же гиперактивный субъект, применяющий договоренности для усиления права вмешаться.
ПАРАДОКС дозировщика: попытки
ограничить власть ее наращивают
От Кремля до Белого дома все согласны насчет пользы ухода государства с рынка. Путин время от времени говорит о том же. Но всякий раз, «подвигаясь», власть остается рядом. Тот факт, что наше государство — рыночный игрок, делает ее опасной в нерыночном смысле слова. Сталкиваясь с проблемой, государство не может понять, где оно в данный момент — на рынке или среди врагов? Должно ли оно как рыночный субъект минимизировать издержки, или в роли обороняющегося защищаться?
Ознакомительная версия.