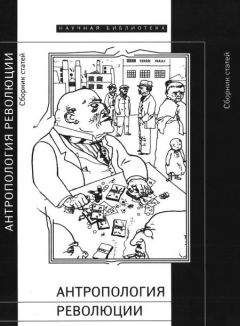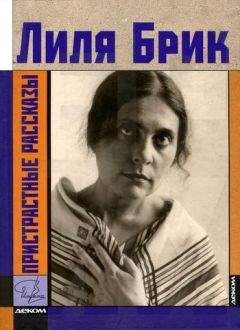Орнамент в такой перспективе — это просто диаграмма роста познания, или сознания. Но механизм этого роста проявляется не только в формах сознания и в тех фантастических арабесках, которые это сознание прочерчивает, в формах воображения. Механизм этот порождает и «орнаменты» физического и органического миров.
Наличие такой имманентной причины развития по отношению к форме можно без труда обнаружить, например, в растениях или животных. Известно, что в природе стабильность сохраняют те формы, которые тяготеют к равновесию. Когда равновесие формы достигнуто, например в шаре или иных идеально симметричных фигурах, любое незначительное нарушение равновесия в них легко поглощается формой, легко возвращающейся к исходному состоянию. В асимметричных состояниях форма может достигнуть нестабильности, которая приведет к изменению этой формы и может «запустить» процесс ее динамического развития.
Еще в начале XX века Д’Арси Томпсон опубликовал ставшую классической книгу «Рост и форма», в которой он объяснил развитие органических форм, в том числе растений и животных, через физику равновесия и его нарушения. В числе прочих форм Д’Арси Томпсон описал генезис завитка, который у Ригля лежит в основе греческой формы. Среди прочего он рассмотрел пример «сложного зонтика» (cyme unipare scorpioide) (илл. 4):
…мы начинаем с первичного ростка, из которого под определенным углом возникает иной росток: из которого, в свою очередь, с той же стороны и под тем же углом еще один, и так далее. Отклонение или кривизна непрерывна и прогрессивна, так как она вызывается не внешней силой, но только причиной, внутренне присущей системе. И вся система симметрична: углы, под которыми возникают новые ростки, равны, а длина ростков уменьшается в постоянной пропорции. В результате последующие ростки последующих приращений роста оказываются завитками кривой, и эта кривая — настоящая логарифмическая кривая[77].
Илл. 4. Схема органического роста из книги Д’Арси Томпсона.
Кривая роста такого завитка экспрессивна потому, что она выражает в форме причину своего развития.
Но то же самое можно отчасти отнести и к обществу, хотя картина тут неизмеримо более сложная. В качестве примера можно, например, использовать теорию экономического развития, разработанную Йозефом Шумпетером примерно в то же время, когда Д’Арси Томпсон писал свою книгу. Экономика, конечно, является интегрированной частью социального организма, а потому процессы, происходящие в ней, имеют более широкое социальное значение. Я, разумеется, не буду входить в подробности ставшей классической доктрины Шумпетера и остановлюсь лишь на одной из «причин» ускоренного экономического развития — кредите. Шумпетер начинает свои рассуждения с описания классической модели экономики, когда производитель продает созданный им товар, а на вырученные им деньги покупает товар иного производителя. При этом каждый из производителей, участвующий во множестве обменов, эмпирически знает, какова потребность в его товаре на рынке, и старается производить ровно столько, сколько может быть потреблено. В такой системе количество необходимого товара прямо зависит от объема реализации иных товаров на рынке и, соответственно, от массы циркулирующих в результате этих операций денег.
Подобная экономическая модель определяется Шумпетером как модель «кругового потока»: «…кругооборот хозяйственной жизни завершается, т. е. достаточное число продавцов всех благ снова может выступить в роли покупателей, с тем чтобы приобрести блага, которые в том же объеме будут потреблены и найдут себе применение в производственном аппарате в следующем хозяйственном периоде, и наоборот»[78]. Поскольку никто из включенных в цикл не заинтересован в нарушении достигнутого равновесия и в перепроизводстве своего товара, экономика «кругового потока» будет неизменно воспроизводить себя, но будет при этом сопротивляться экономическому развитию, которое неотвратимо приведет к нарушению баланса всей системы.
Для того чтобы система из состояния равновесия и устойчивости перешла в цикл развития и роста, ее равновесие должно быть нарушено[79]. И одним из способов нарушения баланса является кредитование. Кредит вносит в систему избыточное количество денег, которое позволяет расширить производство или начать производство нового товара. Но, считал Шумпетер — и в этом его оригинальность, — деньги, идущие на кредитование, не возникают из кругового обмена. Иначе развитие было бы чрезвычайно медленным. Это значит, что деньги кредита не должны иметь эквивалента в циркулирующих на рынке товарах. «Структура кредита устремлена по ту сторону существующих золотых запасов, но также и по ту строну наличествующего товарного основания»[80], — писал он. Шумпетер даже различал «внешне неразличимые» «нормальный» и «патологический» кредиты. Первый имеет эквивалент в «общественном продукте», а второй — нет. Он говорил о патологическом кредите как о «средстве платежа, которому ничто не соответствует»[81]. Инъекция кредитных денег в рынок позволяет антрепренеру начать новый бизнес и закупить необходимую ему массу товаров, но вновь возникшей покупательной способности на этом рынке не соответствуют никакие новые товары. Как писал Шумпетер, «пространство для нее [новой покупательной способности] выжато из той покупательной способности, которая существовала раньше»[82]. Вот почему в периоды экономического подъема всегда возрастают цены и усиливается инфляция. Это связано с инъекцией в рынок денег, «которым ничего не соответствует».
Развивающийся рынок в описании Шумпетера функционирует следующим образом: «лишние» деньги вливаются в циркуляцию, обеспечивают дополнительное потребление товаров, но остаются на рынке после того, как это потребление имело место. Это ведет к инфляции. Но если все происходит по плану, антрепренер начинает выпускать новый товар, который поступает на рынок и который по стоимости предположительно выше суммы кредитованных денег. В результате этот товар поглощает денежный избыток на рынке и инфляция падает.
Если вдуматься в описанный Шумпетером механизм, то он попросту сводится к нарушению равновесия системы. Сначала на рынок попадают деньги без товарного эквивалента и порождают инфляцию, которая потом гасится новым товаром и приводит к дефляции, покуда новый кредит вновь не восстанавливает неравновесие системы.
Системы такого типа, как и растения, обеспечивают собственный рост за счет дисбаланса. Но в случае рынка дисбаланс этот имеет по-своему иллюзионистский характер, так как связан с созданием дополнительной покупательной способности из ничего. Можно описать модель Шумпетера и иными словами. Речь идет об экстатическом выходе системы из самой себя, о механизме разбалансирования, который система интегрирует в свое тело и который становится причиной изменения. Рынок в такой перспективе оказывается экспрессивным организмом, выражающим в росте производства имманентный для него выход из себя самого.
Этот выход из себя самого грубо соответствует сартровскому l’en-soi, бытию-для-себя, чисто человеческому свойству не подпадать под принцип идентичности. В этом принципе заключен механизм историзма, развития и свободы. Но то, что принцип этот выводит растение или рынок из мира неорганической идентичности, чрезвычайно существенно. Дело в том, что экстатическое бытие может пониматься и как принцип субъективности. Вот как определял субъективность Делёз в своей первой книге: «Субъект определяется движением и через движение своего собственного развития. Субъект — это то, что развивает само себя. Вот единственное содержание, какое мы можем придать идее субъективности: субъект выходит за свои пределы, он ставит под сомнение самого себя»[83].
Это определение субъекта решительно противостоит картезианскому, целиком зависимому от репрезентативности. Но оно же позволяет определить место субъекта в экспрессивной форме. Субъект оказывается, по существу, эквивалентным самому принципу движения, заключенному внутри этой формы. То, что приводит эту форму в движение, то, что оказывается движущей силой экспрессивности, может быть в принципе определено как субъект. Конечно, знание, которое получает субъект экспрессивности, — это знание спинозовских аффектов, pathos’a, а не концептуальное знание. Нетрудно понять, что экспрессивные формы систематически переводятся нашей культурой в понятийные и языковые. Именно об этом говорил Лефевр, который считал, что всякий символ по своему генезису экспрессивен, а по форме, которую он в результате своего движения приобретает, — дискурсивен и прерывист.