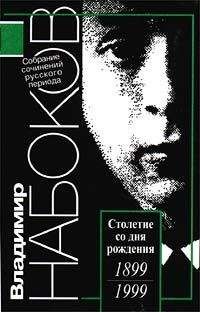“Капабланка, — пишет автор, — вернул шахматы из области суровой науки в сферу веселого и радостного искусства”, и он описывает дальше чудесную его карьеру, победу над Ласкером, триумфы, триумфы, неожиданный период вялости и опять триумфы. Есть “игра в пространстве”, для которой характерна забота о целости и крепости каждой позиции, и “игра во времени”, т. е. игра в движении, в развитии. И вот Капабланка является игроком динамическим, “рыцарем быстро бегущего времени”. Не менее метко описывает Зноско-Боровский игру Алехина. Сравнивая его с Капабланкой, он называет последнего классиком и техником, а Алехина — романтиком и тактиком. Капабланка спокоен, и в его палитре есть гениальная гармония. Алехин горяч, воображение его не знает преград, комбинации его сказочны. “Его игра расходится словно веером, который будет сложен лишь в миг последнего удара”.
Текст снабжен несколькими интересными диаграммами, а в конце книги даны четырнадцать избранных партий Капабланки и Алехина с прекрасными, хоть и краткими примечаниями.
Отмечаю необыкновенную живописность некоторых выражений автора и бодрый, крепкий темп всего изложения. Зноско-Боровский пишет о шахматах со смаком, сочно и ладно, как и должен писать дока о своем искусстве. Нижеподписавшийся, скромный, но пламенный поклонник Каиссы, приветствует появление этой волнующей книги.
Книжный кружок. Белград.
(Впервые: “Руль”, 23 ноября 1927.)
В этом сборнике представлено десять поэтов.
У В. С. Григоровича есть размах, но есть и промахи. Великолепно, например, следующее: “То я встаю громадной тенью и ясно вижу чрез окно свое мятежное движенье, и плащ мой улицу метет, шагаю прямо через крыши, но мой широкий вещий ход еще пока никто не слышит”. Безграмотно и все-таки чем-то хорошо: “…созерцавшему в синей от молний дали Божество в ослепительный рост”. Но зато совсем плохо: “под самумом, идущим теперь, устоять должен я на обеих ногах”.
Среди стихов Евг. Кискевича есть одно очень занятное, безвкусное, но не лишенное какой-то грубой оригинальности. Действие происходит в церкви: “Угрюмый блондин у колонн прислонил ослабевшие плечи…” Оглушительная строка! Кроме того, принужден отметить, что первое стихотворение Кискевича начинается так: “Работай, работай, работай” (взято целиком у Блока), а последнее так: “Я говорю о нежности, о славе” (тоже вроде Блока).
К Ирине Кондратович грешно придираться. Большинство поэтесс любит писать “рот” вместо “губ” и воспевать колдуний, шелка и Пьеро с Коломбиной.
А у Екатерины Таубер есть также черта, присущая всем поэтессам. Это обращение не на “ты”, а на “вы”. Ее стихи не избежали губительного влияния Ахматовой, поэтессы прелестной, слов нет, но которой подражать не нужно. Меж тем Е. Таубер пишет: “На голове лежат так гладко волосы, одежды строг чернеющий (?) атлас, я никогда не повышаю голоса, я никогда не поднимаю глаз”.
Александр Костюк дал три бледных, ничем не замечательных стихотворения. Одно из них — Аннамитская песня: “Плывет сампан по черной воде, и ночь вокруг, уснул банан” и т. д. Рецепт известен.
Среди стихотворений Леонида Кремлева восемь очень плохих и одно совершенно прекрасное: “Когда над мертвыми полями взойдет последняя звезда, когда как зверь завоет в яме душа в предчувствии Суда, — тогда заблещут в небе трубы, и ангел мстительной рукой в мои оскаленные зубы вонзит свой факел огневой. Но я, глотая месть и пламень, не уступлю, не отойду и брошу мой последний камень в его последнюю звезду”.
Л. И. Машковский пишет в стихотворении “Тигр” о “кавалькадах обезьяньих и птичьих”. Позволю себе заметить, что птица все-таки не лошадь. Заинтересовала меня и другая строка: “Был органически слит в волевом напряжении”…
Гр. Наленч пишет об “игре закатных лучей”, о “страстном надрыве”, о том, что “весенние грезы трепещут”, и о других таких вещах, которые можно найти в очень старых номерах “Нивы” за подписью Круглова, Порфирова, Коринфского и других.
У Дм. Сидорова есть две-три недурных строки: “и вместо белых роз весны блеск ослепительный кинжала, и вместо синевзорых дев гул потрясающих сражений”. Однако, оказывается, что Дм. Сидоров “верен идеалу”, а слово “идеал” в стихах — как глоток миндального молока.
У Юрия Сопоцько есть какая-то ребячливость в стихах, и это и хорошо, и плохо. Плохо, когда это переходит в сюсюканье. Хорошо, когда внушает такие стихи: “…и не страшно в засаде найти свою смерть, не узнав, чья была это месть. Но как страшно, как глупо, как смешно умереть, оттого что нечего есть”.
СОБРАНИЕ СТИХОВ. К-во “Возрождение”. Париж.
(Впервые: “Руль”,14 декабря 1927.)
“Адриатические волны! О, Брента!..” Как много в этом взволнованном восклицании… Но пушкинской Бренты нет. Брента — просто “рыжая речонка”… Такой увидел ее воочию Владислав Ходасевич и, поняв обман романтической мечты, полюбил “в жизни и в стихах” прозу. Спешу, однако, отметить, что, во-первых: эта “рыжая речонка” Ходасевича не менее прекрасна в своем роде (а прекрасна она именно потому, что мутная и рыжая), чем та Брента, которая мерещилась Пушкину; и что, во-вторых: “Проза”, о которой говорит Ходасевич, — совсем необыкновенная проза. Если под поэзией в стихах понимать поэтические красоты, узкое традиционное поэтичество, то проза в стихах значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов. Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т. е. в некотором смысле несвободный) ритм и составляют особое очарование стихов Ходасевича.
“Адриатические волны! О, Брента!..” Пушкинский певучий вопль (я говорю только о звуке — о лепете первой строки, о вздохе второй) является как бы лейтмотивом многих стихов Ходасевича. Его любимый ритм — ямбический, мерный и веский. Пусть он местами строг до сухости; неожиданно он захлебывается упоительным пэоном, острая певучесть перебивает холодноватый ход стиха. Трепетность его хорея удивительна. Поэт ахнул, проснулся в тот самый миг, как скользнул было в сон. “Сердце бьется невпопад” (что чудесно выражено хромой рифмой “только” — “столика”), и “только ощущением кручи ты еще трепещешь вся, легкая моя, падучая, милая душа моя!” Впечатление трепета нежности и падения достигнуто (с каким мастерством) полуударением на второй стопе первой строки, щекочущим повторением буквы щ и легкостью, многогласностью двух последних строк. Замечательна музыка стихотворения “Мельница”. Оно написано совершенно правильным и все же неожиданным, неслыханно-прекрасным размером. Каждая из шести строф состоит из пяти трехстопных ямбических строк, причем вторая строка и пятая рифмуют (простенькая мужская рифма), а остальные удлинены дактилическими окончаниями (с легчайшей тенью ассонанса в смежных). Описать певучий говорок этого стихотворения невозможно, привести же только выдержку — жалко. Наконец, в “Балладе”, написанной трехстопным амфибрахием, Ходасевич достиг, по моему мнению, пределов поэтического мастерства. Поэт сидит у себя в комнате, в сухом блеске электричества, и вдруг начинает качаться и петь (причем в этом месте дактилическая рифма вдруг заменяет женскую): “музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое”. И дальше: “И в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает”.
Такова поразительная ритмика стихов Ходасевича. И странное дело: это мастерство и острая неожиданность образов оказывают какое-то гипнотическое действие на читателя, и околдовывая его слух, поражая его внимание, мешают ему “переживать” вместе с поэтом, по-человечески сочувствовать тому или другому его настроению. В последнем отделе сборника есть несколько стихотворений с “гражданским” оттенком. Так, у стихотворения “Окна во двор” (каждому окну уделено по строфе) изображается так называемая мещанская атмосфера. Однако так восхитительна стеклянная прелесть образов, что читатель просто не в состоянии проникнуться этой атмосферой, пожалеть этих убогих жителей, посетовать на их серую жизнь (и это хорошо). То же самое можно сказать по поводу и другого стихотворения (о том, как с беременной женой ходит безрукий в синема). Поэт, охваченный негодованием и жалостью, восклицает: “Ременный бич я достаю с протяжным окриком тогда, и ангелов наотмашь бью, и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь. Так с венетийских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей”. Если поэт хотел возбудить в читателе жалость, сочувствие и т. д., то он этого не достиг. Упиваешься его образами, его музыкой, его мастерством, — и ровно никаких человеческих чувств по отношению к ушибленным не испытываешь.