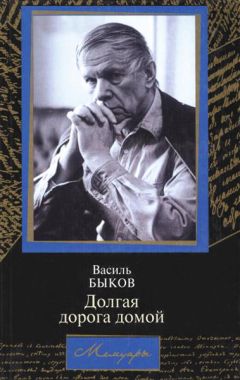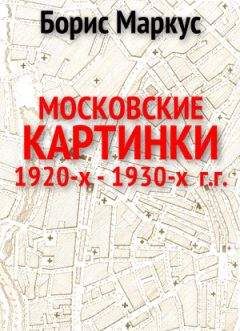Погожим июньский утрой мы приехали на Украину…
Белые мазанки, тополя, непривычный для уха язык на станциях, гоголевские ассоциации — всё это перенесло в другой мир, романтичный и сказочный. Не думал тогда, что так много драматического и трагического будет связано у меня с этой страной.
Не успел осмотреться, узнать по-настоящему город и даже найти своего дядьку, как грянула война. Поначалу это, признаться, не очень испугало нас, молодых: были же совсем недавно финская война, перед нею — освободительный поход в Западную Белоруссию, всё окончилось триумфальными победами. Победим и теперь. Тем более, что нами руководит непобедимый товарищ Сталин. Но очень скоро стало тревожно, а затем и страшновато. Захотелось домой, в родные места. Да вот дороги туда уже не было. Когда германский вермахт занял Минск и Гомель, подступил к Киеву, военкомат мобилизовал нас. Сперва — на оборонные работы. Месяц, наверное, копали мы глубокий и далеко растянувшийся противотанковый ров, кажется, под Пироговкой, который так и оставили, не закончив, потому что немцы уже замыкали кольцо вокруг Киевского «котла»…[44]
Тысячные колонны 17-18-летних юнцов потянулись по пыльным дорогам на восток. Стояла невыносимая жара. В селах и городках, которые мы проходили, нас провожали женщины и девушка, выносили еду, угощали фруктами, махали платками. Некоторые плакали. А мы бодрились, шутили. Кучку белорусов никто не оплакивал, наши плакальщицы были не здесь. Но и украинки жалели нас. На окраине древнего Глухова девушка с черной косой подбежала ко мне и поцеловала — то был первый в моей жизни волнующий девичий поцелуй. Ночевали обычно в гумнах, коровниках, опустевших уже школах. Хлопцы-украинцы очень хорошо пели. Как ни уставали они за день, всё равно в темноте звездной летней ночи где-нибудь на краю села долго звучала их самая любимая песня: «Распрагайтэ, хлопци, коней та лягайтэ спачываць, а я пiду в сад зэлэный, та крынычэньку копать!» Чуть рассветет — подъем и снова в путь, жарким и пыльным шляхом, пока не появятся в небе немецкие коршуны.
Едим что и где придется. Мы в основном на подножном корме. К счастью, в то лето уродило много яблок и овощей. Забегаем в придорожные лавки, в которых, однако, почти ничего нет. Всё расхватали до нас. В Белгороде я решил купить фруктового чаю, чтоб поесть, когда прижмет, но был зажат толпою, сгрудившейся у прилавка, и долго не мог выбраться из нее. Из-за этого отстал от колонны, а потом вообще потерял ее. Пока бегал по забитым войсками улицам, настала ночь. Я зашел в полуразрушенный бомбой дом и, утомленный, уснул. Разбудили меня патрули. Отвели в комендатуру. Там — ночной допрос: кто такой? почему отстал? с какой целью? Обыскали, отобрали документы. Нашли в моей сумке карту — вырванный из учебника лист, на котором я, грамотей, отмечал положение на фронтах. Этот лист едва не погубил меня. Лейтенант в синей фуражке, приступивший к допросу, после первых же слов дал мне в ухо и почти сразу — в другое: «Почему скрывался?» Я попробовал было объяснить, что отстал от команды, что иду из Сумской области. А он на это: «Все так говорят. Грубо работают ваши фашисты, по шаблону. Но мы выбьем из тебя всё, что требуется, японский городовой! Понял?»[45]
Такую угрожающую брань я слышал впервые и запомнил на всю жизнь.
Правда, больше меня не били и, злобно костеря, отвели в подвал. В камере было темно, но чувствовалось, что там есть люди. Не видя их, я присел у двери. Вскоре, присветив фонариком, в камеру сунули кого-то еще, и мне пришлось отодвинуться подальше. Я прислонился к стене и, кажется, ненадолго задремал.
Едва занялось утро, проснулся. При слабом свете разглядел своих соседей, их было человек восемь. Один лежал на боку, вытянув длинные ноги в высоко намотанных обмотках. Другой сидел рядом, на голове у него была фуражка со звездой. А еще один, в белой вышитой рубашке, ворочался, заложив руки за спину. Я увидел, что они связаны и невольно подался к нему, чтобы развязать. Но человек этот судорожно дернулся и простонал: «Не трогай, застрелят!» И я отвернулся.
К моему удивлению, из камеры до полудня никого не выводили, а добавили еще троих. Все молчали, только один из новичков вдруг заплакал. Но на него кто-то резко прикрикнул: «Стихни! Разнюнился…» Все чего-то ждали и прислушивались к тому, что происходит наверху. А там действительно происходило что-то непонятное — рычали машины, раздавались громкие крики, звучали отрывистые команды.
В полдень началась жуткая бомбежка, и наше узилище так затряслось, что с потолка посыпались какие-то ошметки. Где-то строчили пулеметы, но зениток не было слышно. Это сдержанно отметил мой сосед в обмотках.
Под вечер несколько человек вывели из камеры. В ней стало посвободнее. А наверху по-прежнему было шумно: невдалеке глухо бухали пушки. Несмотря на это, я снова уснул. И открыл глаза лишь тогда, когда меня окатило волною свежего воздуха. Дверь была распахнута, и в ней стояли военные в плащ-палатках. Ударами кирзачей разбудили они тех, кто лежал поближе, и приказали им выходить.
Через некоторое время в другом конце здания послышались выстрелы. «Четыре…» — в испуге сказал кто-то в камере (именно столько увели). Лицо моего соседа в вышитой[46] рубашке сделалось таким белым, будто его обсыпали мукой. А дверь начала открываться всё чаще, из камеры выводили одного за другим. Усилившаяся перестрелка не могла заглушить доносившихся до нас одиночных выстрелов, которые, как я мог различить, раздавались совсем близко. В очередной раз пришли двое — молодой в синей фуражка и пожилой усатый красноармеец с винтовкой. Усатый скомандовал мне: «На выход!» — и я послушно поднялся. Плохо помню, как вышли мы из-под нависшего свода, как, пройдя через мощеный двор и завернув за угол каменного здания, оказались на вытоптанных огородных грядках. Там, под старым дощатым забором, увидел я в крапиве длинные ноги в высоко намотанных обмотках. И не выдержал — слезы ручьями потекли из глаз. Красноармеец остановился, видно, удивленный моим безмолвным плачем, и неожиданно бросил: «Беги, пацан! Бы-ыстро!»
Из всех сил рванул я по картофельный грядам к пролому в заборе, с дрожью ожидая, что усатый вот-вот выстрелит в спину. И он действительно выстрелил. Но — в воздух. Это я понял на бегу, чувствуя, что жив, и не решаясь даже на миг обернуться.
Миновав забор, не дал себе передохнуть, а продолжал бежать — через какие-то огороды, сквозь проволочную изгородь, пока за покосившимися сарайчиками не попал в переулок, заросший колючим репейником. Военных там не было, лишь испуганная тетка с ведром высунулась из-за угла. Я пробежал мимо нее и остановился перед открывшейся мне «железкой». Куда податься — направо или налево? Решил: пойду налево — подальше от водокачки, что высилась неподалеку. Навстречу мне попался немолодой железнодорожник с жестяным чемоданчиком в руке. Я спросил его, в какой стороне Харьков? Железнодорожник подозрительно оглядел меня и молча показал — там. Я и пошел в указанном им направлении.
Все дороги были забиты войсками, обозами, беженцами, что топали пешком и ехали на повозках. Поэтому я шпарил по шпалам, рассчитывая, что так быстрее доберусь до Волчанска — городка под Харьковом,[47] где, как я слышал раньше, формировались запасные части. Команда, от которой я отстал, должна была прибыть именно туда. Но где был тот Волчанск? И действительно ли он под Харьковом? И в нужную ли сторону направил меня железнодорожник? Спросить об этом было не у кого. Да я и боялся спрашивать.
Но мне невероятно повезло. В лесопосадке, раскинувшейся около железнодорожного полотна, я случайно обнаружил свою команду. Нужно ли говорить, как обрадовался? Я почувствовал себя почти счастливым. Но у меня не было ни одного документа, все остались в Белгородской комендатуре. Хорошо, что командиры не стали придираться — не до того было, да и хлопцы подтвердили — наш.
Именно тогда я в первый раз ощутил радостное единение с людьми, преимущество этого единения перед мучительной жизнью и тяготами одиночки. Про то, что случилось со мною в Белгороде, долго никому не рассказывал, о документах позднее написал, что потеряны в начале войны. Без лишних подробностей.
Из нас сформировали новую команду, обмундировали — правда, в б/у (т. е. бывшее в употреблении), а вместо оружия вручили лопаты. Было объявлено — с этого дня мы входим в состав армейского инженерного батальона. И во главе с новым начальством двинулись на север от Харькова копать траншеи. Через несколько дней нам выдали винтовки — по одной на десять человек, и мы почувствовали себя бойцами непобедимой Красной Армии. Но когда фронт стремительно приблизился, началась катавасия — участились бомбежки, немецкие прорывы, воздушные десанты. Десантников надлежало вылавливать и немедленно уничтожать. Однако в большинстве случаев, оказавшись почти без оружия, мы сами от них удирали. Однажды нас бросили прикрывать контратаку кавалерийской части. И в тот день я по настоящему ощутил весь ужас войны.