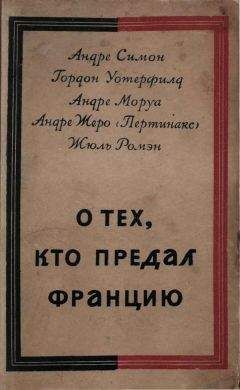В отраве последних лет его жизни виновна все та же клевета, которая, притаясь на время и меняя цвета, как хамелеон, нашла в самом образе жизни семьи, принадлежащей свету и подчиненной его условностям и суетным обычаям, новую для себя пищу. В одной из своих боевых речей знаменитый Брайт сказал:
"Могут ли оставаться спокойными честное сердце и возвышенный ум, чувствуя, что они ненавидимы, когда хотелось бы пользоваться заслуженною любовью, — и внимая вокруг себя тонкий свист клеветы, змеи, ползущей во тьме, так что нет возможно" сти поразить ее!?"
Такая именно клевета, направленная на Пушкина, вползла в семейную жизнь его и обвилась вокруг него нерасторжимым кольцом. Отравляя его сердце, смущая его ум, она предала его тяжким мукам подавленною го гнева и сознания своей беспомощности против грязного вторжения праздного злоречия в "святая святых" его души. Разорвать это кольцо и — вернуть необходимое спокойствие мог бы один лишь отъезд из Петербурга и связанные с этим новые впечатления. Его манили Рим, Византия и Иерусалим, — о которых он хотел бы написать поэму, — он порывался даже в далекий Китай [110], но человек [111], коварной и лицемерной "дружбе" которого был, к несчастью, поручен государем России ее первый поэт, держал его, как Прометея, прикованным к серой и холодной петербургской скале и предоставлял коршунам злорадно терзать то сердце, о котором уже сам Пушкин говорил: "Пора! Пора! Покоя сердце просит!" [112].
Нечистые руки вооружили против него клеветническое перо, и участь его была решена. Развязка не могла быть иною. Пушкин был слишком цельною натурою, чтобы продолжать жить в сумерках подвергнутого сомнению семейного счастья, чтобы примириться с положением, которое могло казаться двусмысленным. Он принадлежал к людям, следующим совету французского мыслителя: "On traverse une position equivoque — on ne reste pas dedans" (из двусмысленного положения выходят — в нем не остаются (франц.)) По условиям современной ему общественной жизни поединок был, к сожалению, единственным выходом такого рода. Те, которые осуждают Пушкина за это и желали бы видеть его "не мячиком предрассуждений", по-видимому, не представляют себе ясно последующей картины жизни "мужа чести и ума", малодушно затыкающего себе уши среди возрастающего наглого презрения общества, вырваться из которого по первому желанию зависело не от него. Но и тут нравственный образ Пушкина ярко вспыхнул в последний раз. Угасая, он не разделил скорби Кочубея, которому пришлось "смерти кинуться в объятья, не завещая никому вражды к злодею своему" [113], и потребовал от своего друга и секунданта Данзаса обещания не мстить Дантесу, прощенному умирающим [114].
Вдумчиво касаясь общественных язв и раскрывая их, Пушкин искал и исцеления их. Он сознавал, что не только карающего, но и созидающего закона для этого недостаточно. Необходимо свободное развитие духовных сил народа путем общественного воспитания и истинного просвещения. Отсутствие воспитания доли, ума, характера всегда служит корнем многих зол в жизни личной; отсутствие просвещения народа — источник зла в жизни государственной. Лишь лукавый льстец, по словам поэта, может говорить, что "просвещенья плод — разврат и некий дух мятежный" [115].
Напрасно относить какие бы то ни было людские безумства к избытку просвещения. Напротив, одно просвещение способно оградить от общественных бедствий, — думал Пушкин, — и ссылался на многозначительные слова манифеста 1826 года о гибельном влиянии не просвещения, а праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил [116].
Эта праздность ума и то, что "мы все учились понемногу — чему-нибудь и как-нибудь", т. е. без всякой системы и определенной цели, смущали, его, так как, не давая прочных основ для житейского труда, ложились в основу "тоскующей лени", для которой так часто единственным занятием в безделье "жизни праздной, как песнь рабов однообразной", являются карты — "однообразная семья — все праздной скуки сыновья". Еще более, чем несовершенство законов или отчужденность их от жизни, пугали его "сгущенная тьма предрассуждений" и поддерживающий ее "невежества губительный позор", не только кладущий постыдную тень на общество, мирящееся с ним, но зачастую и ведущий его к гибели. Отсюда удивление Пушкина пред Ломоносовым, этим "единым самобытным сподвижником просвещения между Петром и Екатериною II", — отсюда его восхищение Петром, "самодержавною рукою смело сеявшим просвещенье"; — отсюда увлекающая его картина торжества, когда "раздался в честь науки песен хор и пушек гром!" [117].
Смерть рано похитила Пушкина. Он разделил судьбу Рафаэля и Байрона, тоже скончавшихся на 37 году жизни. Он только больше их выстрадал, прежде чем сомкнул глаза навеки. Страдальческая кончина его почти обрадовала тех, кого он называл толпою, — повергла в глубокую скорбь тех, кто понимал, чего лишилась Россия в Пушкине. Вот как описывал мне в 1880 году, в одну из долгих вечерних прогулок по морскому берегу в Дуббельне, впечатление, произведенное на него смертью Пушкина, покойный Иван Александрович Гончаров:
"Пушкина я увидал впервые в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал читать его — и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Чрез несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его — матовое, суженное книзу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете.
Пушкин был в это время для молодежи все. Все ее упования, сокровенные чувства, честнейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений — все сводилось к нему, все исходило от него… Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником, "переводчиком" при министерстве финансов. Работы было немного — и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но над всем господствовал он. В моей скромной небольшой комнате, на полочке, на первом месте, стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строка была прочувствована, продумана…
И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет… Это было в департаменте. Я вышел из канцелярии в коридор — и горько, не владея собой, отвернувшись к стене и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце — и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уж нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колена, лежал бездыханным… И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины… Нет, это не верно, — о смерти матери, — да, матери. Чрез три дня появился портрет Пушкина с подписью: "Погас огонь на алтаре…", но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить…"
Пушкин погиб, но он не умер. Можно было разрушить его телесную оболочку, но плоды его духа, его творческого гения не поддаются смерти. Он сам знал это, говоря в пророческом предвидении: "Нет! Весь я не умру! Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит"… [118] Звон его душевных струн стоял над русской землею непрерывно, то густея, то временно ослабевая, под влиянием злобы дня. Но взгляды односторонней оценки и юношеского задора, пробовавшего колебать треножник "маленького, миленького Пушкина" [119], прошли, "спадая чешуей", и восьмидесятый год соединил у памятника в Москве, в одном общем чувстве благодарного умиления, просвещенных русских людей самых различных направлений.
Тогда, казалось, безвременно погибший поэт простил русскому обществу с высоты своего пьедестала его вольные и невольные по отношению к себе прегрешения… В забытьи последних телесных мук своих, светлея и прозревая духовно, он говорил Далю: "Ну, подымай же меня! Пойдем, да выше!.. выше!"… [120] И он идет все выше и выше в русском самосознании, поднимая его за собою, облагораживая его. Гремящий и чистый ключ его поэзии разлился по русской земле в многоводную и широкую реку.
Своим нравственным обликом Пушкин вещает нам о вечной красоте, о любви к правде, о милости к падшим, о сострадании. Он сказал: "Есть избранные судьбами — людей священные друзья — их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит"… [121] Но кто же, если не он, принадлежит к этой семье? Его неотразимые лучи светят над нами; он на школьной скамье и в тишине семьи встречает нашу молодежь и учит ее, посвящая в тайны русского языка, в его невыразимую прелесть; — он будит в устающем сердце старика вечные чувства и память о лучших порывах его молодой когда-то души! Недаром сказал ему Тютчев: "Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!" [122]. А кого нельзя забыть, тот не умирает. И кажется, что здесь, на празднике нашего духа и нашей справедливой гордости, в среде Академии Наук, присутствует и он, ее главнейший член [123], живой, подвижный, с выразительным лицом, в густых кудрях волос, с печатью светлой думы на челе, — и что сегодня его веселый, детский смех звучит особенно радостно, без затаенной ноты скорби, и прекрасные голубые глаза не имеют повода темнеть от боли и гнева…