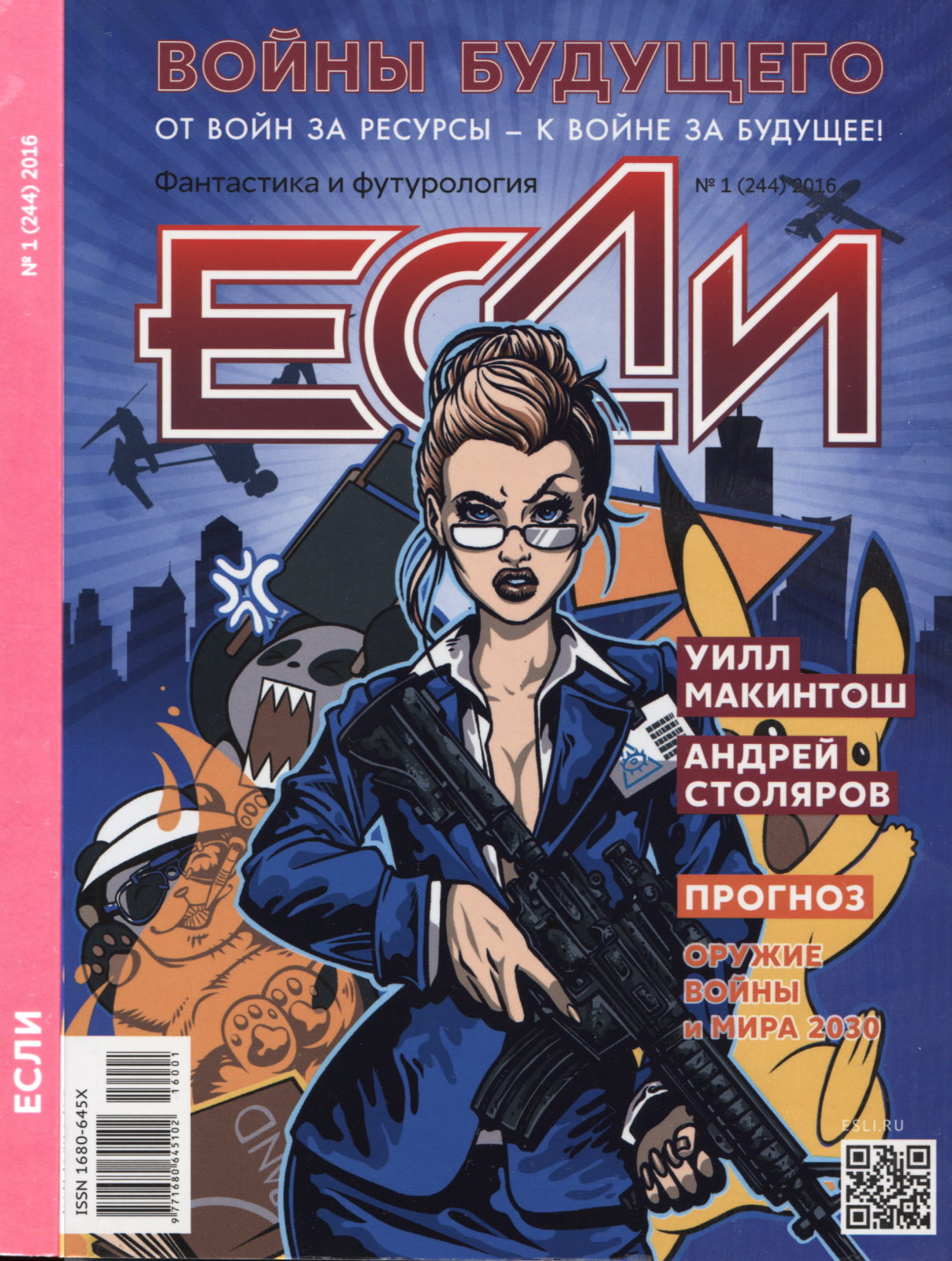земля приближалась, увеличивая дымы и рытвины окопов.
Но деда похоронили на Кубани, я видел его имя на бетонном обелиске. С ним всё произошло правильным образом.
— Пошли глухаря-то есть, — прервал эти размышления Евсюков.
Мы сели вокруг котла на улице. Стол был крив, да и мысли были непрямы.
Помянули Семёна Николаевича, а после третьей и вовсе пошло легче.
— В старом глухаре есть что-то от кабана, — сказал Сидоров. — В том смысле, жёсткий. Он как кабан.
— А мне нравится, он ёлкой пахнет. Смолой, то есть… — Евсюков хлебал своё жирное и красное варево. — Ты ешь, ешь, Вова — я тоже сначала в сомнении был, а сейчас ко всему привык. Главное, людей любить надо — а живых или мёртвых — дело второе.
— А что у нас с властью — ну там менты разные? Что военком?
— Да ничего военком — мужик он хороший, да бестолковый. Ему выписали денег под праздники, он старикам наручные часы накупил, да тем дела и закончил. Он про меня знает, не мешает и не вмешивается — я бы сказал, грамотно поступает.
Что нам, нужно, чтобы привезли пять первогодков для того, чтобы они три раза пальнули над могилой? Нам не надо, и Семёну Николаевичу не надо. Наше дело скромное, тихое. Мы по душе дела улаживаем.
Календарь с треском рвался на пути от первых майских праздников ко вторым.
Наконец, мы двинулись в обратный путь и взяли с собой Ивана Павловича — до города. Там ждали его дела и какие-то, нам неизвестные, родственники. Ночь катилась к рассвету — и круглая фара луны освещала наш путь. Закрыв глаза, я думал о том, что леса наших стран полны людей, не доживших свои жизни. И земли вдоль великих рек полны воинов, превратившихся в цветы. Пройдёт век, народы сольются — и ненависть сотрётся. Этой ночью мёртвые спят в холодной земле Испании, проспят и холодные зимы, пока с ними спит земля, и будут просыпаться, когда придёт майское тепло. Они спят на Востоке, под степным ковылём, со своими истлевшими кожаными щитами, зажав рёбрами наконечники чужих стрел. И пока они спят, беспокойно и тревожно, то думают, что их войны ещё не кончились.
И золотоордынцы с истлевшими усами, чернявые генуэзцы, русские и литовцы спят вповалку, потому что никто не знает места, где они порезали и порубили друг друга.
И в глубине морей, растворившись в солёной воде, их разъединённые молекулы только дремлют, пока кто-то не простился с ними по-настоящему…
Вдруг Евсюков резко затормозил — все отчего-то сохранили равновесие, один я больно ударился головой. На мгновение я подумал, что нас провожают чёрные копатели — точно так же, как и встречали.
Но жизнь, как всегда, была твёрже.
Прямо на нас по безлюдной дороге надвигалась тёмная масса.
Чёрный немецкий танк, визжа ржавыми гусеницами, ехал по русской земле. И сквозь броню на башне, дрожа, светила какая-то звезда.
Часть дульного тормоза была сколота, но танк всё же имел грозный вид.
Фыркнув, он встал, не доехав до нас метров десять.
Из верхнего люка сначала вылез один, а потом, по очереди, ещё три танкиста.
Они построились слева от гусеницы. Мы тоже вышли, встав по обе стороны от «Нивы».
Старший, безрукий мальчик в чёрной форме, старательно печатая шаг, подошёл к Ивану Павловичу, безошибочно выбрав его среди нас.
— Господин младший сержант! Лейтенант Отто Бранд, пятьсот второй тяжёлый танковый батальон вермахта. Следую с экипажем домой, не могу вырваться, прошу указаний.
— А почему четверо? — хмуро спросил Палыч. Лейтенант вытянулся ещё больше — он тянулся, как тень от столба. Но тени у него, собственно, не было. Только пустой рукав бился на ночном ветру.
— Пятый — выжил, господин младший сержант.
— Понял. Дайте карту.
В свете фар они наклонились над картой. Экипаж не изменил строя, и молча глядел на своих и чужих.
Танк дрожал беззвучно, но пахло от него не соляром, а тиной и тоской.
— Всё, — Палыч распрямился. — Валите. И держите Полярную звезду справа, конечно.
Лейтенант козырнул, и немцы полезли на броню.
Танк просел назад и дёрнул хоботом. Моторная часть окуталась белым, похожим на туман, дымом, и танк, уходя вправо, начал набирать скорость.
Евсюков выкинул свой окурок, а Палыч свой аккуратно забычковал и спрятал в карман.
— Что смотришь-то? Это, видать, головановские. — сказал Палыч. — Нечего им тут болтаться, непорядок. Пора им домой. И так бывает, да.
— Давай-давай, — дёрнул меня за рукав Евсюков, сам, кажется, не очень уверенно себя чувствовавший.
Но наша «Нива» закашляла и заглохла. Мы долго и муторно заводили её, и сумели продолжить путь только на рассвете, когда сквозь сосны пробило розовым и жёлтым.
— Сегодня — День Победы, — сказал я невпопад.
— Ты не говори так, — сказал Евсюков. — Мы так не говорим. — Завтра у нас будет 9 мая. У нас Дня Победы нет, потому как война кончается только тогда, когда похоронен последний мёртвый солдат.
— А, почитай, пока у нас никакой Победы и нет, — подытожил Иван Палыч. — Но водки сегодня выпьем несомненно, что ж не выпить?
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
09 мая 2016
Слово о Гамалее (2016-05-12)
Давным-давно, на одной научной конференции, приехавший из провинции докладчик говорил у доски, перемежая свою речь следующими ремарками:
— Как ещё в 1936 году показала покойная Гамалея…
— Следствие из вот этого утверждения, высказанного покойной Гамалеей…
— Покойная Гамалея убедительно доказала, что…
Внезапно, откуда-то из президиума встал старичок и дребезжащим голоском произнёс:
— Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея — это я. И хоть я и не вполне мужчина, но ещё жив…
В других местах эту историю рассказывают по-другому, как заметил в конце какого-то своего рассказа Ги де Мопассан.
Извините, если кого обидел.
12 мая 2016
Слово о ромашке (2016-05-12)
Однажды я долго, мучительно долго ехал по железной дороге, приближаясь к родному дому. Приближение это оттягивалось, мой зелёный поезд проедал, как короед, разноцветные слои Забайкалья, Прибайкалья, Восточные и Западные Сибири.
Ехал я с людьми солидными, понявшими толк в той, прошлой уже, жизни. А в той прошлой жизни, надо сказать, мы были гражданами самой читающей страны мира.
В поезде с печатным словом было туго — разве пробежит по вагонам слепоглухонемой