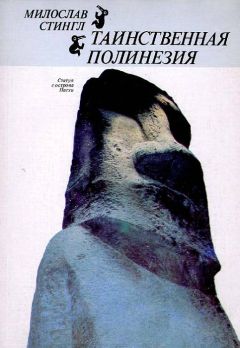— Вот… это тебе на нуждишку… когда взгрустнется поесть… или выпьешь за мое здоровье… А теперь — богоданным родителям кланяйся в ноги, крестному… дяденьке… А потом прощайся со всеми председящими, — друзьями и приятелями… Теперь уж не скоро… того…
Служивый послушно следовал указаниям деда — поочередно валился в ноги старшим, троекратно целовался, смущенно говорил заученные слова прощания. Крестный Иван Маркович достал кошелек, долго и сосредоточенно перебирал в нем пальцами. Вынул рубль и, подумав над ним, сказал:
— Дай-ка мне полтинник сдачи…
— Да ты бы уж все давал! — доброжелательным голосом сказал Максим Рогачев.
— Все — много… Ну, так и быть, давай тридцать сдачи… Пущай моих семь гривен идет…
Служивый из бывших у него в кармане денег очень обстоятельно отсчитал тридцать копеек и передал их крестному.
Митрий Васильич, прощаясь, горько заплакал:
— А мне уж вот некого ни провожать, ни встречать… Один остался, как перст… Пятеро сыночков было, — всех прибрал Господь…
Людей было много, и долго обходил их Луканька. Всех обошел, не миновал и малышей, со всеми попрощался. Все были близки, все стали дороги, как родные, в эту последнюю минуту пребывания в родном углу. С иными браниться случалось… Вот Алешка Коваль, — с ним не раз дрался… А рядом с ним чернобровая Маришка, — за ней бегал когда-то женихом, вечерами ловил ее на улице, шептал бессвязные признания, а она с размаху давала ему раза по спине… И одинаково сейчас сердцу близки и Коваль, и Маришка… Были обиды, ругань, мелкие, но бурные счеты… Но как мякину отвеял ветер и осталось одно зерно, полновесное и ценное, — забылось все мелкое, раздорное, осталось трогательное сердечное сознание крепкой связи с этими родными стенами, родной землей и людьми, на ней живущими. И было невыразимо больно сердцу отрывать корни, которыми связано оно было с этим миром…
Слышно ржание Корсака. Гремят выстрелы. Пора… Мягкий голос Митрия Васильича уже со двора доносится. Знакомая песня прощания:
Закаталося красное солнышко
За темные за леса…
Обнимает, рыдает мать, плачут сестры, жена. Аверька в рваной шубенке, подпоясанной белым вязаным кушачишком, громко навзрыд рыдает: жалко брата, который хоть и за ухо трепал, но брал с собой в поле, сажал на лошадь, давал вожжи — править… И так горючи эти слезы, так властны над сердцем…
Стояли воза у ворот: буланый Киргиз, на котором мать и жена поедут до Скурихи — проводить, и старая рыжая кобыла, которой досталось везти сено. За ее возом был привязан Корсак, гладкий, вычищенный, подобранный, нервно озирающийся вокруг…
Как требовал обычай, блюстителем которого был дед Ефим, служивый сел на Корсака, выехал за ворота, обернулся к родному двору и — в знак последнего прощания — выстрелил из ружья, которое подал ему Кирюшка. Запрыгал, заплясал Корсак, осыпая кругом брызгами обледенелого снега. Тронулись воза. Народ двинулся вслед, и снова песня занялась впереди:
За горою за крутою огонь горит дымно…
Пошли наши казаченьки — чуть шапочки видно…
Тихая улица с хатками, запушенными снегом, с плетнями и кучками жердей, с узорчатой полосой верб в конце, обычно безлюдная, оживилась пестрым движением, говором, звуками песен и выстрелов. Выходили из всех ворот старые и малые — взглянуть на служивого, попрощаться, сказать слово привета и ласки перед долгой разлукой. И ко всем подходил он, целовался и бормотал одни и те же слова прощания…
Звенит песня. Ветер подхватывает ее, треплет, уносит за кровли куреней. Пестро движется толпа, шатаются и прыгают воза на ухабах, озирается и пляшет Корсак. Идет рядом с Луканькой Максим Рогачев, волоча по снегу развернутые полы тулупа. Глядит в лицо умильными пьяно-влажными глазами, бормочет:
— Лошадь — что!.. Об лошади плакать — черт с ней!.. Она на могилу не придет плакать… А вот матерю родную жалко… да… и сторону родную, иде, — говорится, — пупок резан…
Бежит Аверька с старой попонкой в руке, — отца догоняет: забыли попонку для кобылы. Бежит и в голос плачет, — все еще не может забыть горя разлуки, — и утирается рваными рукавами шубенки, — милый Аверька…
— Ну, чаво ты рявешь? — тоном ласкового увещания, усмехаясь, говорит ему вслед Максим Рогачев: — сам рявёть, а сам бягёть!..
Уходит вдаль родной курень, кончается улица. Сейчас спустимся в низину, в левады, в вербовые рощи с голыми, красноватыми ветвями, и уже не будет Луканьке больше видно голубых ставен на белой стене, знакомого журавца в белом небе и черных веток садика под ним…
Останавливаются казаки, садятся в круг на дороге, пьют, поют. Расслабленными, пьяными голосами повторяют прежние пожелания. Гремят выстрелы по станице, — выехали и другие служивые. Живописные, пестрые круги рассыпаны теперь по всем улицам, — оживилась станица, провожая в дальнюю службу молоденьких сынов своих…
Вот и роща вербовая — знакомые, тихие левады. Дальше и дальше уходят воза, запряженные шершавыми лошадками. Отодвигается назад родной угол… Мелькнули еще раз из-за верб ветряки, гумна и церковка. Спустились в лог — все скрылось…
— Ну, прощай, Луканька!..
— Простите Христа ради, дяденька…
Слезы у него в карих, красивых глазах. Жалко мне его… дрожит сердце, заплакать готово. И не знаем мы оба, зачем и почему и какая неведомая, властная сила отрывает от родного угла, от родного поля, от нужного, святого труда юного, здорового работника и бросает его в чужую, постылую сторону… В ушах лишь расслабленный, пьяный голос Максима Рогачева:
— Сам рявёть, а сам бягёть…
С двенадцатым годом в нашем далеком углу, как и во многих российских углах, были связаны какие-то смутные ожидания и надежды.
Ожидание — может быть, даже томление — в последние годы есть непременный и самый заметный элемент настроений в низах, — да и в низах ли только?.. Конечно, и прежде были чаяния, но они устремлялись по преимуществу в горние обители, к небу, к Господу Богу — от Него ожидали облегчений тягостей и скорбей жизни. Теснота и нестроения принимались, как порядок фатальный, из веков предуставленный, недаром в иных своих частях именовавшийся священным и неприкосновенным.
Но годы войны и внутренней борьбы не прошли бесследно даже и для таких глухих закоулков, как наш. Они значительно взбудоражили привычные понятия, кое-что обнажили, кое-что даже перевернули. Аграрных беспорядков у нас не было — помещиков и латифундий в наших местах нет, — а из нашего угла мобилизовали несколько полков для охраны священной собственности. Чужую собственность наши второочередные и третьеочередные казаки охранили, а вернулись домой — своя собственность в разор пришла, и само собой, без всяких агитаций и разъяснений, в смутном и неоформленном виде родилось чувство горечи, началось неумелое, робкое размышление ощупью, сопоставление виденного, слышанного, пережитого… И помаленьку выяснилась связь своего маленького, частного с большим общим. Зазвучал вслух ропот, не раз прорывавшийся в виде открытых беспорядков и сопротивления властям. В конце концов военные суды не миновали и нашего тихого, смирного уголка и внесли свою лепту в прояснение сознания.
Своевременно и ближайшие к нашему обывателю власти, имея основания предполагать, что всякое патриотическое усердие должно более или менее оплачиваться, а служба для охраны освященного давностью порядка, вызвавшая столько расходов и жертв у населения, пошатнувшая его хозяйство, — тем более, — приняли все меры, чтобы вызвать к жизни бессмысленные мечтания. Одушевляемая самыми лучшими намерениями, власть внушала, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают, и широко распространила слух об ожидаемых свыше милостях…
Милости — точно — воспоследовали, но их платонический, неосязаемый характер ни в малой степени не оправдал тех необузданных чаяний, которые Бог весть откуда появились в головах станичников.
— Земли нарежут казакам!.. — уверенно говорили знающие люди.
— Земли-и?
— Форменно! По 30 десятин на пай…
— Н-ну?! — Лица невольно расплывались в широкую улыбку. — Что ж, это хороший бы козырь к масти, — земли стало утеснение… А где нарезать-то будут? Может, к китайской грани или в Зеленом Клину? — так нам туда не ехать… помрем лучше тут, на своих саженьках…
— Мордовскую землю царь определил… Земля добрая и возле: сейчас за Бирсиглепом…[2]
— Эта не дюже далеко… А мордву куда же?
— Мордву на японскую грань… Пужать японцев…
Сомнений и критики слухи эти как-то не вызывали. Даже и то обстоятельство, что японцев можно было припугнуть мордвой, наружность которой, повидимому, рисовалась в довольно устрашающих очертаниях, — и это принималось с полной верой: не одолели оружием, авось одолеем страховидностью…