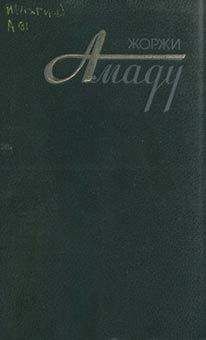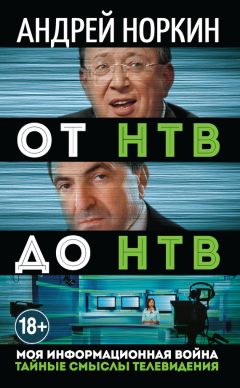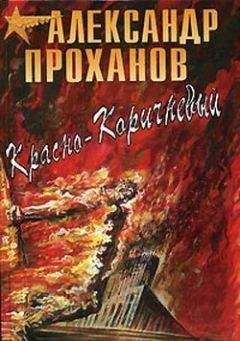Неожиданный приезд Сталина на Лубянку вызвал переполох. Лица рядовых, дежурного офицера, недопившей свой чай вахты выражали показные, как показалось Сталину, ужас и почтение. Вызванный по телефону комендант, на ходу поправляя свой ремень, подбежал с докладом. Набитый людьми, заставленный ящиками с документами холл в свете ярких люстр превратился в музей изваяний.
По сравнению с полупустым, полутемным Кремлем здесь было светло и многолюдно. Вспомнив про злосчастных мотоциклистов вермахта, Сталин хмуро спросил:
— Что, ждете немцев?
Комендант не растерялся:
— Ждем, товарищ Сталин, в тире на втором этаже рота войск НКВД ведет подготовку к тому, чтобы дать отпор врагу!
Ответ показался Сталину несерьезным. Как несерьезной и авантюрной, ввиду возможного прорыва немцев в город, показалась суета, затеянная с погрузкой оставшихся в учреждении документов.
Обомлевшие лица энкэвэдэшников не выражали ничего из того, что видел, пережил и узнал Сталин за последние сутки.
Пройдя во внутренний двор, приехавшие остановились у большого костра, в который двое одетых в гражданское молодых людей бросали разрозненные кипы бумаг. Ревущее пламя гипнотизировало, создавало ощущение безопасности и уюта. Интенсивность его языков создавала тепло, покой. Это остро почувствовал засмотревшийся на огонь Сталин. Его спутники почтительно стояли поодаль, на их лицах играли отблески разведенного из наркоматовского архива костра, радостно пылающего в центре обреченной на оккупацию и позор Москвы.
Из доклада Сталин узнал, что почти все "гости" дома на Большой Лубянской улице развезены по дальним "зимним квартирам". Захваченные еще утром немецкий диверсант и два мародера по законам военного времени после короткого допроса были расстреляны. Оставалось несколько узников в "нижнем ярусе", а также в одном кабинете допрашивался полусумасшедший работник какого-то московского театра, сеявший, как сказал комендант, панику среди населения.
— Распространял вредительские сплетни, товарищ Сталин. Будто бы немцы хотят взорвать Кремль, привязать... вождя советского народа к огненному колесу и пустить его с кремлевской горки в речку. А столицу нашей Родины, Москву, собираются, мол, затопить волжской водой, повернув канал вспять...
Пройдя еще один пост, двинулись вниз по узкой, хорошо освещенной лестнице. Пролет, пролет... Еще пролет. Потом — другая дверь, за которой еще один пост.
Тот, с кем хотел поговорить Сталин, был заперт в дальней камере, так что группе пришлось долго идти по коридору, пол которого был выложен матовой коричневой плиткой. Надзиратель и вошедшие за ним Сталин с охраной не увидели в полутемном помещении ни единой души.
Мгновенно в голове Сталина пронеслась мысль о том, что он приехал в ловушку, что его, Верховного главнокомандующего, предатели сейчас заточат здесь, объявив нового главу правительства, готового подписать капитуляцию.
Жуткая мысль исчезла так же мгновенно. Надзиратель вытащил из-за койки худого мужчину, одетого в тертый, без пуговиц френч. О том, что узник не выходил из камеры уже четыре года, свидетельствовала потрясающая бледность его лица. Знакомые Сталину тонкие черты с трудом угадывались в худом, искаженном ненавистью лице. Охрана надела на заключенного наручники, которые стали звякать на его дрожащих запястьях.
— Я знал, что ты придешь, — сразу же тихо зашипел узник. — Придешь в последний момент, когда вся твоя игра провалится. Ведь все кончено, так? — в интонации обитателя камеры были злорадные нотки. — Теперь тебе нужен я, не так ли? Так ведь ты знал, что без меня тебе не спастись. Иначе зачем ты гноил меня здесь все эти годы, и приговор так и не привели в исполнение...
Сталин молчал и внимательно наблюдал за неестественно резкими жестами некогда-то близкого ему человека.
— Ты захотел стать царем... — продолжил тот. — И стал царем. Помнишь царя, Коба?.. Не забыл, что с ним стало? Вот и ты разбит, как царь-колокол... Будешь валяться на площади, а на тебя будет глазеть народ. А потом тебя выбросят. Х-ха! Как металлолом...
Я понимаю, что теперь у тебя нет выхода, требуются переговоры, следовательно, нужен я... Конечно, нового Ропальского договора не получится. И Брестского мира не выйдет. Но все равно без меня тебе не обойтись. Ведь немцами правят совсем не такие кретины, как вся твоя шайка. Они знают, что им можно, а чего нельзя. А ты нарушил все правила, зашел слишком далеко. Возомнил себя царем. Теперь, Ваше Императорское Величество, пора, очевидно, подумать не о скипетре и державе, а о том, как сделать так, чтобы я тебя простил и, когда Москву возьмут, спас, организовал мирный отъезд и пенсию...
— Пенсию? — удивленно переспросил Сталин, вглядываясь в своего собеседника. — Уж не предлагаешь ли ты мне свой личный счет в Швейцарии? Или счета других "пламенных революционеров", которым уже не понадобятся ни франки ни доллары?
— Ты зашел слишком далеко, Коба. Как ты, умный человек, не понимал, что твоя затея обречена? Сделал ставку на русских. Прожил всю жизнь в России и не понял, что такое русские... Ты попал в сказку с дурным концом. Сегодня они сдадут Москву немцам без сожаления. А с какой радостью они сдадут тебя! Как будут глумиться над тобой! И правильно. Не мни себя царем. Царь, он тоже был против переговоров с Германией...
— Что-то ты часто вспоминаешь царя. Не дает покоя 18-й год?
— Да... — задумчиво произнес арестант. — Тогда мне многое открылось. О том, что Прусская принцесса пыталась защитить себя и своих детей при помощи символа-свастики, рассказал мне мой подчиненный, тот венгр Имре. Но свастика оказалась бессильной. Более того, она закрутилась в обратную сторону. И знаешь, почему, Коба? Потому что история идет по нашему пути, а не так, как ты себе представляешь. И если ты не одумаешься, ты и твои потомки не уйдут от мести! Ты встал на пути сил, по сравнению с которыми вся мощь вермахта — дуновение ветра. У тебя есть шанс в течение часа освободить меня, человека, согласись, избранного. Через два часа я буду в штабе немецкой армии, к утру в Европе, через неделю в Америке...
Сталин все усмехался, доставая и закуривая трубку.
— В Америке? Это маловероятно... Прощай.
— А-а! — закричал истерично обитатель камеры. — Гнусная, гойская черта — самоуверенность! То, что я тебе сказал, — это больше, чем политика, больше, чем война. Скоро ты увидишь, кто будет править миром! Знай, что это предначертано! Как тогда, летом 18-го года, было предначертано всем им в Ипатьевском доме...
Узник перешел на крик, из его уст сыпались проклятия.
— Не трогай мертвых, — не оборачиваясь, сказал Сталин, выходя за дверь. Надзиратель, пропустив его, кинулся в камеру утихомиривать разбушевавшегося арестанта.
А Сталин обратился к коменданту:
— Товарищ комендант, я рекомендую не откладывать более исполнение вынесенного приговора. Это тот случай, когда надо поторопиться...
Все дальше и ниже они уходят от камеры цареубийцы по коридорам и лестницам, погруженным в полумрак. От лязга дверей Сталин недовольно морщится.
В другой камере почти темно. В углу на топчане полулежит человек. Он высок, худ и давно не брит. На широкоскулом лице поблескивают стекла старомодного пенсне. Заключенный никак не реагирует на вошедших в камеру и только после звонкого окрика чекиста: "Встать, сволочь!" — лениво, замедленным движением спускает с топчана ноги.
"Ну, с чем пожаловали?" — с легкой насмешкой приветствует он визитеров. Чекист и охранники Сталина переминаются с ноги на ногу, поглядывают на вождя. Сталин не спешит с ответом. Стоя на пороге, трогает пальцами жесткую щетку прокуренных усов. Внимательно всматривается в профиль узника, сохранивший медальную четкость линий.
Проходит минута, другая и комендант не выдерживает: "Товарищ Сталин..."
"Ста-а-алин?” — поражен заключенный. "Неужели Сам пожаловал? Какая честь, не ожидал, право…" А сам весь подобрался.
Это, лишенное всякой угрозы движение, вызвало беспокойство у дюжего начальника охраны, поспешно шагнувшего вперед и лапнувшего кобуру своего пистолета.
— Я к вам, Александр Павлович, — медленно и веско произнес Сталин, — посоветоваться пришел. Еще с девятнадцатого года считал, что вы умный человек.
— Но мы, кажется, не встречались, — в голосе его собеседника, кроме прежнего изумления, была еще и насмешка.
— Ну, не лично, — ответил Сталин, — а ваши солдаты и мои красноармейцы.