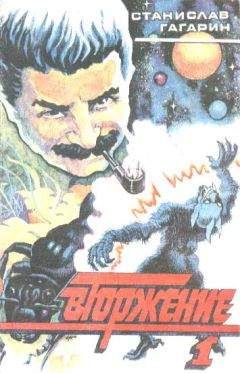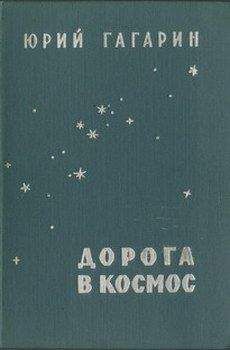И снова рвал Степан руку из-под колеса и скреб лед онемевшими пальцами. Тщетно. Он уткнулся в рукав телогрейки и зарыдал, громко и беспомощно.
Потом долго лежал у машины и не кричал, не звал на помощь, лишь изредка всхлипывал и чуть слышно стонал. И скоро замолчал вовсе, и боли Степан не чувствовал, успокаивался и видел себя на охоте с отцом. Раз поставили они капканы на серого. Разбойник попался, а взять его не удалось. Перегрыз волк собственную лапу и ушел на трех…
«Капкан! Я тоже в капкане!» — вздрагивает Степан, рвет зубами рукав телогрейки и, теряя рассудок, руку, немеющую от мороза…
И опять не чувствует боли, и соленый вкус крови отрезвляет Степана.
Нет, он — человек, не быть ему волком, не может им стать Степан!
Играют сполохи. «Как салюты», — думает и вспоминает, что и не видел их, победные салюты, ни разу. Как взяли раненого под Харьковом в сорок втором, так и…
И снова скребут лед окровавленные пальцы.
Стоит на дороге машина. Капкан. В капкане — человек. И тишина кругом. Страшная тишина. Машина, человек и тишина.
И видит Степан огни. Идут по дороге машины. Это люди, это жизнь. Его, Степана, жизнь. И вот уже в больнице он, латают ему руку врачи.
А в лагере справку с фотографией начальник вручает и литер до Костромы.
Идет Степан по дороге, оборачивается и видит, как из-за колючей проволоки лагерной зоны политики, что срока еще не досидели, вслед ему смотрят осуждающе.
«Братцы, и вы дождетесь! — хочет крикнуть им Степан. — Вот я-то дождался…»
Только не может крикнуть, опускает голову и идет по дороге молча.
А дорога прямая к дому его подводит. Стоит на крыльце Наташа, а рядом с нею парень высокий. И кажется Степану, будто сам он, молодой, стоит на крыльце.
— Кто это? — спрашивает жену.
— Да это же сын наш, Степан. Неужели не узнаешь?
…Нет, не идут по дороге машины, и это сполохи, а не фары светят, и многие километры до них пути.
И снег больше Степан не скребет. Ноги, кажется, стали мерзнуть и потому он машинально стучит валенками.
Вот и теплее стало. Жарко даже. Степан осторожно, чтоб очередь пулеметная не задела, расстегивает ворот гимнастерки… Каска лезет на глаза и, встряхивая головой, он сбивает ее назад.
— Идут…
Видит, как из переболевшей оспой земли встают зеленые тени.
Поднимается Степан во весь рост, стреляет из автомата и, обернувшись к роте, громко кричит:
— За Родину! За Ста…
На его могиле поставили небольшую пирамидку, сваренную из листового железа, с красной жестяной звездой на вершине. Так хоронили только вольных. Ведь срок у Степана уже кончился.
Рассказать соотечественникам, почему они после Второго сборника «Ратных приключений» получили Четвертый, а затем Третий, и теперь вот держат в руках Первый, хотелось мне давно. Поначалу думал отвести этой едва ли не детективной истории весь «Дневник», потом решил: слишком много чести тем субъектам, которые заварили такую кашу, что едва не погубили наше «Отечество» вовсе.
В конце концов, решил отвести склочному делу одну главку именно здесь, ибо события произошли поучительные, они как нельзя кстати в «Дневнике», отвечают на первую половину вопроса «кто мы…»
Когда по письму Дмитрия Тимофеевича Язова от 16 июня 1989 года при Воениздате было создано Военно-патриотическое литературное объединение «Отечество», Ваш Соотечественник, который его и придумал, работал в нем один.
Потом стала помогать по совместительству Маргарита Михайловна Свитова, секретарь литературной редакции Воениздата, замечательная женщина, олицетворение порядочности, высокого профессионализма, принципиальной честности. Так сказать, луч света в темном царстве, ибо у тех, кто пришел после нее, даже намека на приведенные выше качества, увы, не было.
Скажете, зачем принимал? А как же, вроде бы и знакомого тебе человека, проверишь, не испытав в деле?! Вот, к примеру, Виктор Юмин, его знал как активиста трезвеннического движения, будто бы хороший организатор, митинги проводил на уровне, засмотришься. Пригласил в «Отечество» коммерческим директором и довольно скоро понял, что деловых качеств, умения работать постоянно у Юмина как раз и нет. Одно дело выступать в ипостаси говоруна, а ежели по-иностранному, то попросту демагога, а вовсе другое изо дня в день трудиться над созданием небывалой прежде организации.
Но Юмин — существо, которое всегда себе на уме. Стоило мне на него поднажать — давай, мол, Виктор, работай, сократи политическую деятельность, она у него тоже выражалась в бесконечном говоренье на всяческих советах и ассоциациях, меньше слов, говорю ему, больше дела для «Отечества», так наш Юмин тут же запросил пардону. Переоценил, дескать, себя, надорвался, уйду по собственному, а за меня остается Коля Алексеев.
Поверил и второму, тоже борцу за трезвость, якобы даже пострадавшему за убеждения на фабрике в Яхроме. Было у меня тогда метафизическое заблуждение, считал: ежели борец за трезвость, то обязательно хороший человек. Оказалось — не так. И среди трезвенников достаточно, мягко говоря, не совсем хороших людей. Словом, редисок и тут хватает, хотя, и это проверено, среди непьющих надежных людей куда больше.
Бездельничал Николай Алексеев больше трех месяцев, потом стакнулся с неким кооперативом и предложил мне от его имени поощрение в мой личный фонд сто тысяч рублей наличными. За этот подарок от меня требовалось переуступить кое-какие права нашего объединения.
На общем собрании Алексеев признал, и сие запротоколировано, что я мог расценить его слова, как предложение взятки. А я так и расценил… Как же иначе рассматривать передачу денег наличными, да еще в обстановке заговорщицкой конфиденциальности? Что бы Алексееву не сказать об этом на правлении? Нет, он сообщил мне приятную новость наедине…
Почувствовав запах керосина, Алексеев, взяв в сообщники Александра Милюшина, великого путаника и неумеху, написал на меня жалобу Борису Васильевичу Пендюру, начальнику Воениздата, изобразив меня субъектом, по которому тюрьма плачет.
О Милюшине надо сказать особо. Он пришел ко мне, что называется с улицы, едва не плача, сообщил: два года не может устроиться на работу. Нигде не берут потому, что до того пять лет служил в КГБ. Университетское образование, историк, с виду грамотный, я бы даже сказал — интеллигентный человек.
У меня нет никаких оснований подозрительно относиться к бывшему работнику госбезопасности. Более того, многие из тех, кого я знал и знаю, сугубо порядочные и надежные люди. Как впрочем, добавим, и работники других правоохранительных органов.
Взял я и Милюшина. А что? Никого другого ведь не было… Ох, и намаялся я с ним! Не знаю, чем он занимался в КГБ, у нас в «Отечестве» он все делал плохо.
И тоже чувствовал: скоро с ним расстанутся. Вот эти двое, инспирируемые и науськиваемые Виктором Юминым, который со стороны зорко следил за происходящим в «Отечестве», и обратились к Пендюру с кляузой, автором которой был по существу сам Юмин, оставшийся в тени, я узнал его стиль и лексику.
С Пендюром у нас были отличные отношения, договоренность об особо доверительных контактах, мол, буде возникнет подобная ситуация, друг другу сообщать лично. Но Борис Васильевич первым изменил этому принципу. Получив кляузу, он испугался. И прямо сказал об этом в присутствии целой стаи полковников-замов, что, мол, скажет Дмитрий Тимофеевич Язов, если подметное письмо попадет к нему. Я ответил, что у Министра обороны достаточно сообразительности, чтобы отделить овец от козлищ, и вообще положено поначалу сообщить тому, на кого жалуются, а не собирать синклит полковников, назначать председателем комиссии некоего Исакова, который с момента возникновения «Отечества» был его ярым врагом.
Не хватило выдержки у Бориса Васильевича, не достало смелости отстоять благородное дело, заопасался он и за собственную генеральскую звезду. И как только дал Пендюр слабину, на «Отечество» будто на раненого льва, бросились, словно шакалы, все его, мягко говоря, недоброжелатели.
Во всем этом лежали зависть и корыстный интерес. Кое-кто из воениздатовцев работал у нас по совместительству, законно получал энное количество рублей за реальный труд по выпуску «Военных приключений». И это справедливо. Но остальным-то платить мы не могли, да и не за что было.
Неважно, у нас давно так повелось, работает один, а денежку давай всем. Иначе писать будем, криминал найдем, прокурора на тебя натравим.
Особенно злобствовал начфин Стригин. Этот полковник в черной форме, которого боится сам генерал Пендюр — «Стригин на меня первым донос накатает», сказал мне как-то Борис Васильевич — поставил рекорд по нападкам на «Отечество».