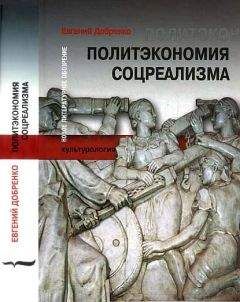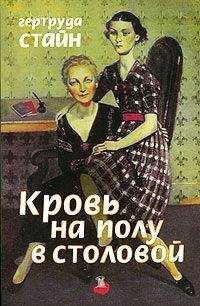О смерти Тарасенкова Пастернак скажет: «Сердце устало лгать». Громова развивает мысль Пастернака: «Насилие над собой, ложь и лицемерие так же опасны для жизни, как чума и холера. И если нравственные болезни охватывают народ, пусть и незаметно, то с неизбежностью происходит его вымирание. У нескольких поколении людей вдруг вместо инстинкта жизни начинает развиваться инстинкт смерти. В Советской стране в душах людей был взломан некий код, отвечающий за жизнеспособность народа, в который, несомненно, входила и нравственность» (с. 383).
Автор пытается вжиться в героя, чтобы понять мотивы его поведения. Она полагает, что «Тарасенкову всерьез казалось, что ему открыта иезуитская логика времени, и если соблюдать ее правила, то можно и других спасти, и себя уберечь. Надо самому бежать впереди и ругать то, что ты вчера хвалил или поддерживал. Надо каяться и признавать свои ошибки и выявлять ошибки других, а потом тихонечко помогать, давать работу, принимать стихи, печатать сборники. Нужна дымовая завеса из крика и ругани. Создателем этой системы был вовсе не Тарасенков, можно прямо сказать, что учителями и вдохновителями были Фадеев и Симонов. И как мы увидим, в 1949 году, они преуспели в этом еще больше. Как ни странно, и тогда, и после им прощались самые оскорбительные выпады, даже против собственных бывших друзей, потому что все вокруг знали — это входит в правила игры с властью, «так надо», чтобы там не съели всю интеллигенцию с потрохами. A вот искренние «борцы» Софронов, Сурков, Суров, Грибачев, Кожевников были презираемы именно за свой «чистый» порыв в желании уничтожить собратьев» (с. 223—224).
Объяснение не вполне точное. Антикосмополитическая кампания была несомненной «заслугой» Фадеева. В своей борьбе с Агитпропом, куда пришел молодой, энергичный и амбициозный Шепилов, хотевший для самоутверждения поставить гонористого писательского генсека на место, Фадеев нашел опору в таких, как Софронов, Суров, Бубеннов. Любимец Сталина, Фадеев был человеком, в сущности, лишенным морали. Судьбы и жизни друзей были для него неважны. Это были пешки в его игре. Удовлетворение собственных амбиций превратилось для него в своего рода спорт. Да, он помогал некоторым из своих жертв, но над всем доминировал азарт прожженного игрока, актера. Страна, где царит безвластие, наполнена самодурами. Здесь действует закон сохранения энергии власти: чем бесправнее большинство, тем всесильнее элита, тем слаже власть, тем больше ее хочется.
Но в этой игре он ошибся. «Мог ли представить Фадеев, выводя в памятном постановлении фамилии и имена своих товарищей, на какой страшный путь он себя обрекает. То, что казалось временной позиционной войной, которая забудется, когда рассеется пыль от взрывов, оказалось началом конца самого Фадеева» (с. 256) Он играл людьми, как оловянными солдатиками. Но и он оказался ненужным в чужой игре подобно тому, как ненужными в его играх оказывались ранее близкие и верившие ему люди. Желая доказать, что он не антисемит, Фадеев редактирует роман Гроссмана, но после публикации в «Правде» погромной статьи Бубеннова вынужден каяться. «Ha Фадеева, — полагает Громова, — мало кто обижался, все знали, что он выступает как некая функция, другой вопрос, как это сказывалось на его собственной жизни.
A Тарасенков? Он снова оказался пешкой в огромной игре, и давно с этим смирился. Пешку очередной раз съели. Каждый такой случай неминуемо приближал его к концу. Вряд ли он обижался на Фадеева. Ведь он и сам делал то же самое. Это входило в правила игры» (с. 351). В эту игру уголовников — умри ты сегодня, а я завтра — играли теперь русские писатели, полагавшие себя «совестью народа». И все же автор ошибается, полагая, что «нa Фадеева мало кто обижался». Казакевич напишет о нем в дневнике в 1953 г. безжалостно точные слова: «Что же такое Фадеев?.. Оказалось — пусть это не покажется ужасным, — что он, в общем‑то, ничто. Он весь изолгался, и если некогда он был чем‑то, то теперь он давно перестал быть этим, и на меня произвело тягчайшее впечатление то странное обстоятельство, что этот человек уже — ничто… Он не понял, что не надо стараться быть как все; нет, надо стараться, чтобы все были как ты. И ошибившись в этом главном, он перестал быть чем‑то» (с. 361).
Фадеев действовал по той же логике «меньшего из зол», по которой Тарасенков писал свои статьи. Белкина вспоминала, как Фадеев говорил ей и Тарасенкову: «Вы что хотите, чтобы вами управляли Первенцев, Бубеннов, Грибачев? Ах, нет, ну так терпите меня! Каков уж есть!.. Он давно уже существовал в логике борьбы за власть. Творчество отступило» (с. 360). Он учил Тарасенкова: «Ты должен понимать, что гораздо лучше, когда мы сами будем бить друг друга, чем если нас начнут бить оттуда сверху!» (с. 292). Когда уговаривал его подать в отставку из «Нового мира» после разгромной статьи Бубеннова в «Правде» о романе Гроссмана «За правое дело», крича в трубку: «He подавать же мне в отставку или снимать Твардовского?! А этой банде антисемитов надо бросить кость! Вот ты и будешь это костью! Пускай подавятся смоленским мужиком!.. Сам понимаешь, тут без оргвыводов никак нельзя!..» (с. 348). Это 1953 г. А в 1949 г. Фадеев сам эту «банду антисемитов» и создал, но кормил их «костьми» не «смоленских мужиков», а своих друзей–евреев, ставших «безродными космополитами», гонимыми теперь этой «бандой»…
Громова искренне полагает, что страшные выступления 1949—1953 гг. «прощались» Фадееву, что «если в конце 30–х годов чудовищные эти слова, лившиеся с трибун, были искренни, что не оправдывает произносяших, то теперь и Симонов, и Фадеев абсолютно цинично говорили это, потому что так было надо. Симонов знал Борщаговского и до войны и во время войны и сам взял его на работу в журнал, а Фадеев знал близко и очень хорошо каждого из уничтожаемых. Агранович, встречавшийся с Симоновым в Переделкине накануне выступления, спросил, как он может участвовать в таком безобразном действе. На что тот ответил: «Лучше это сделаю я, нежели Софронов» (с. 263—264). Чего могли не понимать жертвы, но чего не может не понимать автор, так это того, что объяснения Фадеева «это входит в правила игры с властью» и «так надо» означали: игры Фадеева с властью, так надо было Фадееву. Причем — исключительно в целях самоутверждения.
После его смерти Чуковский запишет в дневнике: «Мне очень жаль милого Александра Александровича — в нем — под всеми наслоениями — чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за наслоения! Вся брехня Сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное орудие. Он — по существу добрый, человечный, любящий литературу «до слез умиления», должен был вести весь литературный корабль самым гибельным и позорным путем — и пытался совместить человечность с гепеутничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы. Он был не создан для неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя писательских судеб — что положение отставного литературного маршала для него было лютым мучением… он совестливый, талантливый, чуткий — барахтался в жидкой зловонной грязи, заливая свою Совесть вином» (с. 390).
В этих словах много правды, но много и лжи: «русскими самородками» были и Панферов, и Поликарпов, и Вишневский, но ничего, кроме амбиций, самодурства и бесконечной жажды власти, в этих самородках не было. Был ли Фадеев «добрым, человечным», помогая иногда собственным жертвам и замаливая грехи, заливая их вином? Ну тогда и Иван Грозный был «добрым» и «человечным» — он ведь тоже замаливал грехи после очередного убийства. «Зигзаги поведения» Фадеева Чуковский объяснял внутренней драмой: «был не создан для неудачничества», «привык к роли вождя, решителя писательских судеб», не мог смириться с отставкой… Иначе говоря, основой всего были непомерные амбиции и властолюбие.
«Продуктами эпохи» назовет Фадеев Тарасенкова и себя, узнав о смерти друга. Но были в этой эпохе болевые точки, которые ощутимы по сей день.
1937 год намертво спаял советскую культурную элиту страхом, впервые по–настоящему сбив бывших попутчиков и рапповцев, художников и политиканствующих чиновников в единую затравленную группу, слепо подчинявшуюся окрикам цековских надсмотрщиков, таких как Щербаков, Ставский, Поликарпов. Почти все эти люди были перепачканы взаимными предательствами, кровью друг друга и большой ложью, они «сдались в плен», предав искусство и свое предназначение в нем. Те, кто не стал этого делать, либо были вытолкнуты на периферию (Ахматова, Пастернак, Платонов, Булгаков), либо ушли из жизни (Мандельштам). Но среди оставшихся победителей не было — замараны были все. И это объединяло. Еще больше спаяла война.
1949 год навсегда расколол эту элиту. Внутри нее образовалась трещина. Пришло поколение победителей — «новый материал», о котором будет писать Л. Гинзбург — «люди 49–го» — «молодые, но страшные»[11]. Они оказались страшнее даже страшных людей 1920–х — откровенная шпана, охотнорядцы. Сталинская машина работала на постоянное «обновление кадров», генерируя новый человеческий материал, который должен был сменить «отработанный», а прежний, каким бы ни был он страшным и кровавым, должен был «уступить дорогу молодым» (на высшем уровне это означало, что на смену молотовым и кагановичам должны были явиться шелепины, а на смену фадеевым и сурковым — софроновы и бубенновы).