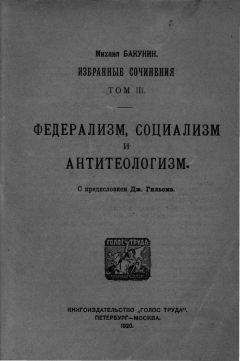Этой ответственности, солидарности в преступлении никогда, господа, я не чувствовал так больно, как в эту минуту; потому, что годовщина, которую вы сегодня празднуете, господа, для вас — великое воспоминание, воспоминание святого восстания и геройской борьбы, воспоминание об одной из прекраснейших эпох вашей национальной жизни. (Продолжительные аплодисменты). Вы все присутствовали при этом великолепном возбуждении народном, вы принимали участие в этой борьбе, вы были в ней деятелями и героями. В этой святой войне, казалось, вы развили, распространили, истощили весь энтузиазм, какой великая душа польская содержит в себе! Подавленные численною силою вы, наконец, пали. Но воспоминание об этой эпохе, на веки памятной, осталось записанным пламенными буквами в ваших сердцах; вы все вышли возрожденные из этой войны: возрожденные и сильные, закаленные против искушений несчастья, против печалей изгнания, полные гордости за ваше прошлое, полные веры в ваше будущее!
Годовщина 29 ноября, господа, для вас не только великое воспоминание, но еще и залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество (Аплод.).
Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 г. была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплод.). Эта война была предпринята в интересе деспотизма и ни коим образом не в интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплод.). Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше дело должно быть общим. (Аплод.).
Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: „за нашу и за вашу вольность". Вы это хорошо поняли, когда, в самый критический момент борьбы, вся Варшава собралась в один день, под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (Аплод.), повешенным в Петербурге, за то что они были первые граждане России!
Ах, господа, вы ничем не пренебрегали, чтоб убедить нас в вашем расположении к нам, чтоб тронуть наши сердца, чтоб вытянуть нас из нашего фатального ослепления. Напрасные попытки! Потерянный труд! Солдаты царя, глухие к вашему призыву, не видя, не понимая ничего, мы пошли против вас, — и преступление совершено! Господа, из всех утеснителей, из всех врагов нашей страны, наиболее заслужили ваши проклятия и вашу ненависть — мы.
И однакож я являюсь перед вами не только как русский кающийся. Я осмеливаюсь провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое почтение к моему отечеству. Я осмеливаюсь еще более, господа, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией.
Я должен об'ясниться.
Около года тому назад, — я думаю, после убийств в Галиции, — польский дворянин, в очень красноречивом и сделавшимся известным письме, адресованном к князю Меттерниху, делал вам страшное предложение. Увлеченный, без сомнения, ненавистью, впрочем совершенно законною, против австрийцев, он предлагал вам ни более, ни менее, как подчиниться царю, отдаться ему телом и душою, вполне, без условий и оговорок; он вам советовал захотеть добровольно то, чему вы до тех пор подчинялись, и обещал вам в вознаграждение за это, что лишь только вы перестанете позировать как рабы, ваш господин, против своей воли, станет вашим братом. Вашим братом, господа, слышите ли вы? — император Николай вашим братом! (Нет, нет! Живое движение).
Угнетателя, врага самого ожесточенного, врага личного Польши, палача стольких жертв (браво!...) похитителя вашей свободы, того, кто вас преследует с такою адскою настойчивостью, столько же по ненависти и инстинкту, как и из политики, — вы приняли-б за брата? (Нет! нет!). Всякий из вас предпочел бы погибнуть (Да!...) я это хорошо знал, всякий из вас предпочел бы видеть погибель Польши, чем согласиться на такой чудовищный союз. (Удвоенные браво). Но допустите на мгновение это невозможное предположение. Знаете ли, какое было бы самое верное средство для вас нанести вред России? Это было бы подчиниться царю. Он нашел бы в этом освящение для своей политики и такую силу, которую отныне ничто бы не могло остановить. Горе нам было бы, еслиб эта антинациональная политика воспреобладала над всеми препятствиями, которые еще противятся ее полному осуществлению! И первое, самое большое препятствие, это, бесспорно, Польша, это отчаянное сопротивление этого геройского народа, который спасает нас, борясь с нами. (Шумные аплодисменты).
Да, — потому что вы враги императора Николая, враги России оффициальной. вы натурально, даже того не желая, друзья народа русского (Аплод.).
Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, что он и его система, притеснительная внутри, и наступательная вне, прекрасно выражают ваш национальный дух.
Все это неправда.
Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастие было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, — патриархальной, так сказать, — которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, — предположите, что у машины есть душа и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки и мы имеем все несчастья Польши без ее чести.
Без ее чести, сказал я, и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, официального, политического в России.
Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи, для поддержания жалких остатков существования, которое угасает. Но Россия не в таком положении, слава богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая, — ей только надо опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтоб показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать наконец всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.
Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово истощиться. Знаете-ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплод.).
Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы, все это одна ложь; ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь чтоб усыпить чувство опасения и сознание императора, который поддается ей тем охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это, наконец, организация на большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа, — потому что все слуги царя, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости, самые вопиющие, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, публично, среди белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе даже труда скрывать свои преступления перед негодованием публики, — настолько они уверены в своей безнаказанности.