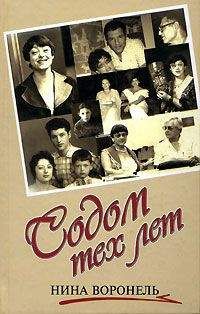- В Вашем стихотворении «Одержимые», вы пишете: «Нам кажется, что мы ещё успеем/ Любить любимых и платить долги». Сегодняшнее поколение мало что знает о людях, рисковавших свободой за то, чтобы перепечатать или просто прочитать запрещённую книгу. Скажите, вы отчётливо понимали риск, которому подвергали себя и своих близких?
- Конечно.
- Несколько лет назад похожий вопрос я задала Софье Богатырёвой, бывшего мужа которой, известного переводчика и диссидента Константина Богатырёва, зверски убили. Она сказала, что участие в диссидентском движении объясняется «русской традицией приходить на помощь нуждающимся, а также верностью своим представлениям о морали».
- Да, мы были знакомы и с Костей, и с Соней. Ответ красивый, но неправдоподобный. Понимаете, всё это происходило не вдруг. С Юликом Даниэлем и Андреем Синявским мы дружили много лет, и только года за три до того, как их начали преследовать, они рассказали нам о том, что печатаются за границей, дали прочесть эти тексты. И мы увлеклись ситуацией, потому что тоже не любили советскую власть. Мы были вхожи в один очень антисоветский дом, где собиралась молодёжь. Кстати, туда приходила и Улицкая, которая тогда была тихой, скромной девочкой. Муж хозяйки дома был участником знаменитого «трикотажного дела». В этом доме не просто не любили, - там ненавидели советскую власть с самого её прихода. Родителей хозяев дома, нэпманов, пытали, били, искали золото. И вот мы собирались, обсуждали существующую жизнь, все эти процессы, литературные проблемы. Когда из Союза писателей исключали Пастернака, Синявский умудрился провести Даниэля с собой, и мы всю ночь ждали их, чтобы узнать, чем всё закончится.
Мы не вдруг вошли в это движение, мы изначально в нём участвовали. Нас привела туда наша биография. Когда моему мужу было 14 лет, он в Челябинске, сразу после войны, создал кружок, где с такими же мальчишками печатал и расклеивал листовки. Потом он просидел полгода в лагере для детей, а это пострашнее взрослой тюрьмы. Тогда и слова диссидент ещё не было, но были люди, не согласные с тем, что происходило вокруг.
- Так может быть, некоторые люди действительно рождаются с вирусом противостояния любой власти? Мне попалась на глаза рецензия Валерия Сердюченко, посвящённая вашим мемуарам, где он пишет: « В любом интеллигентском поколении рождается определённый процент особей, которых хлебом не корми... а дай реорганизовать человечество. Диссидент, даже окажись он в раю, немедленно примется протестовать...» Вы иммигрировали в Израиль в 1974 году. У вас не возникло желание попытаться и там что-то изменить, улучшить?
- Когда мы сюда приехали, то практически ничего не понимали. Я даже приведу пример своего тогдашнего идиотизма. Я сетовала на то, что по сравнению с Советским Союзом в Израиле не было проблем и, стало быть, не о чем писать. Понадобилось лет десять, чтобы увидеть реальные проблемы этой страны, и ещё десять, чтобы научиться различать кто есть кто. А потом выяснилась забавная вещь: оказалось, что если в России я была с интеллигенцией против народа, - потому что народ любил власть и подчинялся ей, а интеллигенция читала, писала и этой власти сопротивлялась, то здесь я с народом - против интеллигенции. Потому что здешняя интеллигенция состоит из тех самых троечников. Проще говоря, из предателей.
- То есть, левых...
- Да. И более того, другим вход в этот клуб недоступен. Чтобы туда попасть, нужно предъявить удостоверение о том, что ты разделяешь их взгляды.
- В своих мемуарах вы признались, что вам было не очень уютно в Израиле 70-х годов. В чём это проявлялось?
- Тогдашний Израиль очень отличался от сегодняшнего. Это была довольно заштатная, несчастная страна. Тель-Авив представлял из себя большую навозную кучу. Знаете, режиссёры любили показывать, как главный герой бежит по улице, а вокруг него свалки, вслед летят бумажные пакеты и мусор.
- То есть, ваши представления о том, как должно быть, не соответствовали тому, что вы увидели.
- Да. Например, я пошла в Институт кино, чтобы отдать сценарий. Ищу здание с этой вывеской, а оказывается что весь Институт располагается в крошечной двухкомнатной квартирке, и там сидят два старичка, которые потом, в кафе, ещё и просят заплатить за их кофе. Кроме того, я не знала языка, а это решающий фактор для адаптации. В общем, потребовалось время, чтобы найти себя. И это было основной причиной ощущения неуюта.
- Сходно ли было это ощущение тому, которое в 60-е годы вы испытывали, приехав их Харькова в Москву. Я спрашиваю об этом, потому что в ваших мемуарах вы часто называете себя провинциалкой.
- Тогда, в юности, приехав в столицу и познакомившись с москвичами, я постоянно ощущала их превосходство.
- Почему? Вы что, носили туфли с белыми носочками, задавали нетактичные вопросы, раскрывали душу первому встречному? В чём проявлялась ваша провинциальность?
- В харьковском образе мысли. Бен Сарнов часто говорил, что мы, провинциалы, – десантники, которые всё разрушают. И в чем-то он был прав: у человека, живущего в провинции, где время течёт медленнее, есть время читать, размышлять о каждой проблеме, и потому его мнение выработано им самим. А мнение москвича - это, как правило, мнение группы или каких-то выдающихся, блестящих людей: вот это сказал Сахаров, это – Сарнов. А мы, десантники, приезжали со своими мнениями и идеями, вступающие в противоречие с общепринятыми.
- В 1974 году вы вынуждены были эмигрировать в Израиль, и приехали в Россию только через 28 лет. Какой она вам показалась?
- Первый раз, в 2002 году, Сашу пригласили на конференцию в Свердловск, и до этого мы решили провести две недели в Москве, с друзьями. Эта поездка оставила странное впечатление: вроде всё то же, но другое. Но в общем и целом, это было терпимо, чего не скажешь о второй поездке в декабре 2004 года. Поводом стало приглашение на конгресс памяти Достоевского, где мы с Сашей должны были выступить с докладами. От Москвы осталось ощущение свинцовой тяжести. Передвигаться по городу было сложно. Из метро выходишь в полуобморочном состоянии – из-за духоты. На машине ездить невозможно из-за сплошных пробок. В один из дней мы пошли в редакцию журнала «Знамя» - от площади Маяковского по Садовому кольцу. Накануне развезло, а утром ударил мороз, и был такой гололёд, что мы, держась за руки, беспрерывно падали.
Но основное впечатление осталось не от погоды, а от людей. Когда видишь, как постарели твои друзья, по-настоящему осознаёшь, что и ты изменился. Это тяжело. А кроме того, замечаешь, что мы по разному воспринимаем и относимся к каким-то событиям или проблемам, что вопросы, которые им кажутся исключительно важными, нам не интересны. И наоборот.
- Например.
- Ну, вот уже упомянутое мною отношение к Солженицыну, буквально разделившее общество на два враждующих лагеря. На мой взгляд, эта борьба была похожа на помешательство.
- А из-за чего, конкретно, народ так возбудился?
- Солженицын проехал на поезде, в персональном вагоне по России, и на каждой станции проповедовал и учил, как её обустроить. Его принимали с почестями и забрасывали цветами. И больше всего моих друзей возмутило то, что он всем этим наслаждался.
- Смена статуса: жертва режима стал народным героем. А кого вы считаете героической личностью?
- Я бы сказала – не героической личностью, а героями моих романов. Есть три избранные личности, которые стали моими героями.
Первая – это Достоевский, о котором я написала пьесу и сценарий для телевидения ВВС. Меня многие спрашивали, почему надо писать об антисемите. А я отвечала, что если перестану писать об антисемитах, то писать будет не о ком, потому что все, в той или иной степени, – антисемиты. Даже евреи. Что делать, евреи – особый народ, он вызывает к себе особое отношение. Второй герой – Рихард Вагнер. О нём я написала повесть, которая входит в роман «Полёт бабочки». А сейчас я закончила пьесу «Маленький канатоходец».
- Я понимаю, почему маленький – в Вагнере было росту метр пятьдесят плюс два сантиметра его бархатный берет. Но почему канатоходец?
- Он говорил, что всю жизнь ходил по канату и боялся сорваться. Я изучила 2000 страниц текста, в том числе, дневники Вагнера, письма к нему и о нём, и обнаружила, что биографы обходят вниманием тот факт, что 1849 году в Дрезден, где Вагнер служил главным дирижёром дрезденской оперы, приехал Михаил Бакунин, разыскиваемый полицией всего мира, и что Вагнер в него влюбился.