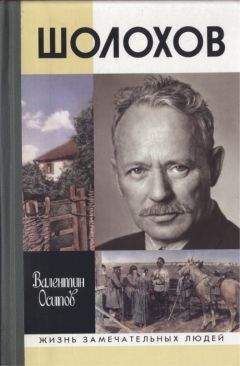И его, и горящую нашу эпоху.
Он хотел, чтобы снимок удался ему!
Так и вышло: на фото – лесная дорога,
Ледяной колокольчик и небо в дыму,
И лицо человека, узревшего Бога.
ОСА В СТАКАНЕ
Это свет фонаря умножает стволы,
Это тень или ветки скрипят?
И гранёного неба косые углы
Очертили заброшенный сад.
Он под небом кружится на все голоса,
В облаках продолжает расти,
Словно тонким стаканом накрыта оса,
Но попробуй её отпусти!
ЭХО
Эхо стоит в лесу, как вода в колодце,
Птицы не движутся, тени пускают корни,
И стрекоза, испаряясь, дрожит на солнце,
Как драгоценный камень в моей ладони!
Небо среди стволов, как в дверном проёме,
И никому не укрыться в своём укроме,
Птичья стальная трель на вершине лета,
Как холодок отстёгнутого шпингалета!
ПОЧЕРК
Коричневый, глиняный сад,
Сверкающий замысел ночи!
Не клинопись чёрных оград,
А беглый божественный почерк.
Как буквы, деревья сошлись,
И гром прокатился по крыше,
И сад поднимается ввысь,
Как дивное четверостишье!
* * *
Это дымное небо стоит столбом
И деревья теряют свою парчу,
Я к стеклу прикасаюсь горячим лбом,
Остудить бы душу, да не хочу!
Так по всей России летят костры,
Словно выдох земли, ну а где же вдох?
И царапают взгляд, как стило, остры,
Обнажённые ветки пустых садов.
Но за тем и небо, чтобы гореть,
И калёный воздух, чтобы дышать!
Если мы живём, так и будет впредь,
И открыть строку, как ладонь разжать.
ИЗ ПОРОДЫ МЕТАМОРФОЗ
Это время июльских гроз
Молний, бьющих прямо в лицо!
Раскалённых метаморфоз,
Окруживших меня кольцом.
Для того я раскрыл глаза,
Чтобы всё растворить в крови!
И горят мои небеса,
И поют мои соловьи!
И струится раскосый лес
Из породы метаморфоз,
И врастает в почву небес
Корневою системой слёз!
НЕБО КАМЕННОГО ВЕКА
Небо каменного века,
Становой хребет зимы!
Кто поднимет Вию веко,
Око гоголевской тьмы?
Кто посмеет, кто захочет
Так рискнуть, чтобы пропасть?
В крупный гоголевский почерк
Мелкой буковкой упасть?
Кто заглянет в это око,
Века чёрное ядро?
До чего оно глубоко,
До чего оно хитро!
* * *
Не алмаз по стеклу – самолёта след!
Ты представишь, лицо опуская ниц:
Ничего, кроме неба, на свете нет,
А земля – это щебет зелёных птиц.
И к обману спиной прислонишься. Здесь
До чего же прекрасна святая ложь!
Если мир увидеть таким, как есть,
То, конечно, не вынесешь – и умрёшь.
Татьяна ВИНОГРАДОВА
Кто же тебя пожалеет?
Колыбельная Офелии
Надежде Бадаковой
Офелия! Фрейлина... фея...
Уходи, не гляди, скорее!
Не трогай, не береди
чужие воспоминанья!..
Но поздно.
Флёр нежнейший развеян,
и в чёрном тумане слабея,
проходишь ты,
мёртвых по-детски жалея,
и молишь за души невинных злодеев,
за грешные души, лишённые покаянья.
Взгляд твой сквозь слёзы светлеет...
– Кто же тебя пожалеет?
Офелия! Феи речные
не плачут, венок твой качая.
Им не дано вовеки
ни радости знать, ни печали...
Волны венок твой уносят,
прозрачно-светла могила...
Волны, они не спросят,
кого же ты больше любила.
Лишь лилии Леты белеют...
– Волны тебя пожалеют.
Первый снег
На глади мира – белый свет от снега.
Погладь мою тоску. Она нелепа
и не умеет в этом мире жить.
В три пополуночи здесь небеса коварны.
Октябрь-оборотень, волк седой,
сорвал златые бармы,
и нежный снег осыпал смертью
плоть листвы.
На новолуние дома своих боятся окон,
И мнится: серо-розовое небо – кокон,
и из него вот-вот появится зима.
В три пополуночи дома,
как призраки, таятся.
Какие казни там за окнами творятся?..
Свет окон тускл. И белоснежна ночь.
Каштан склонился,
погребён вторым цветеньем,
и жёлтый клён стал чёрно-белой тенью.
– Мне холодно! Погладь мою тоску!..
...А призраки в безлюдье обступают,
и шум машин последних затихает,
и новолуние ложится на Москву.
* * *
...В шуме подпёрших небо
чашеобразных вод
посреди ещё не зимы,
но уже почти,
в темноте на площади Юности.
Ингрид Кирштайн
Не зима ещё, но уже почти.
И не жизнь, и почти не смерть.
Замираешь ты, замерзаешь ты
и не знаешь, где высь, где твердь.
И на площади гулко-пусто так,
и со всех сторон нас объемлет мрак.
Только в пасмурном фонаре
хрупкий свет снежинок гор[?].
– Как же страшно лететь к земле
в непроглядной предзимней мгле!
И из мрака в мрак проливаясь
раскалённым злым хрусталём,
рассыпаются струи фонтана
белопенным пленным огнём.
Эти струи, вопреки тяготению,
к чёрно-белой стремясь высоте,
льются завесью, реют теменью –
тени в позднем пустом ноябре.
Этот воздух, почти замерзающий,
этот ни для кого менуэт,
замирающий, ускользающий,
обещающий то, чего нет.
...Не зима ещё, но уже почти.
Сединою снег лёг на площадь Юности.
Мы на самом краешке времени –
остаётся молчать и ждать.
И холодному белому пламени
тёмной ночи не разогнать.
* * *
Уходим в миф. В ненастную мечту.
Уходим навсегда из вашего штрих-кода.
России больше нет. Но в мифе я прочту
Благую, тяжкую, живую память рода.
Писать о том, что вижу за окном?
Ещё, быть может, в гражданина поиграться?
Россия сожжена. И дом – не дом.
И только в мифе свет живой остался.
Перун и Велес, Мокошь и Дажьбог,
Русалки, дисы и вилисы, помогите!
Лес вырублен. Болит его фантом.
Вы, пращуры, к себе нас заберите!
Уходим в миф, в ненастную мечту...
Но стонет Иггдрасиль, и Ольга мстит древлянам.
Понеже – есть предел. Мы перешли черту.
России нет. Есть только миф кровавый.
Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ
Боковое зрение
Замысел
Из шелеста и сырости, из прели
овражной мглы
незнаемое брезжится без цели
и похвалы.
Вздымается вне смысла и без пользы,
дрожит, растёт;
отбросит отблеск на речные плёсы,
но миг – он стёрт.
Неведомое никогда не ясно:
сплошной озноб,
неуловимость и непостоянство –
калейдоскоп.
Случайность, что помножена на льдинку
и птичий пух,
сметает неподвижную картинку,
смущая дух.
Так замысел, растёкшийся по щелям,
виясь, дробясь,
увидеть меж собой и воплощеньем
не хочет связь.
Материал, хоть выругайся, сложен,
размыт, как бред,
поэтому исходно невозможен
автопортрет.
Беру, однако, образ, что так зыбок,
рискну ваять –
себя из недомолвок и ошибок
сложу опять.
Мысль изречённая
Ткань вещей до того любезна,
что их чуждость не вдруг видна.
Укрощённая светом бездна
не достигнет глазного дна.
Смыслы смутные ловит слово,
но оно и привносит свет:
лишь расплещется луч – и снова
мрака подлинной тайны нет.
* * *
Когда смыкается печаль
над выщербленным суесловьем,
то переход к иным речам
природой ночи обусловлен.
Он обусловлен тишиной,
дождём, распластанным по крышам,
и очень внятною виной,
чей голос в гомоне чуть слышим.
Тогда являются слова
о том, что якобы забыто,
и – распрямляется трава
из-под глумливого копыта!
Разъятые на «я» и «ты»,
мы искренности не стыдимся –
так разведённые мосты
томит желание единства.
Мосты, естественно, сведут.
Сомкнётся линия трамвая.
Загомонит весёлый люд,
друг дружке медь передавая.
* * *
Что остаётся в амальгаме,
когда смыкается земля?
Я отражаюсь вверх ногами
в краплёной карте февраля.
Здесь нет меня как такового,
есть штемпель смазанный: транзит.