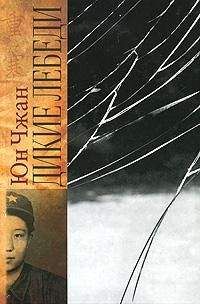Студенты — партработники постоянно вызывали меня на «разговор по душам». Парторгом нашего курса был некий Мин — из деревни он попал в армию, а потом возглавил сельскохозяйственную бригаду. Мин, учившийся очень плохо, долго и самодовольно читал мне лекции о последних достижениях «культурной революции», «славных задачах, стоящих перед нами — рабоче — крестьянско — солдатскими студентами» и необходимости «идейной перековки». Эти «разговоры по душам» проводились со мной из — за моих недостатков, но Мин никогда не говорил о них прямо. Он предпочитал многоточия: «У масс есть к тебе претензия. Догадываешься?..» — и он смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. В конце концов он произносил конкретное обвинение. То я вела себя как «белый спец», то оказывалась «буржуазной», потому что не боролась за возможность вымыть туалет или выстирать белье подруг — то есть совершить обязательные добрые поступки. В другой раз он приписывал мне «низкие чувства»: я не трачу все свое свободное время, занимаясь с однокурсниками, потому что не хочу, чтобы они меня догнали.
У Мина дрожали губы, когда он говорил мне (очевидно, он принимал это близко к сердцу): «Массы докладывают, что ты держишься в стороне. Ты отделяешь себя от масс». В Китае люди часто считали, что вы смотрите на них свысока, если вы не скрывали желания побыть наедине.
Уровнем выше, чем студенты — партработники, шли политические руководители, почти или совсем не знавшие английского языка. Они меня не любили. Я их тоже. Время от времени я должна была рассказывать свои мысли политруку, занимавшемуся моим курсом. Перед каждой встречей я часами бродила по кампусу, набираясь решимости постучать в его дверь. Хотя он не казался мне дурным человеком, я его боялась. Но больше всего я боялась неизбежных нудных расплывчатых распеканий. Как и многие другие, он любил играть в кошки — мышки, чтобы почувствовать свою власть. Мне же следовало выглядеть робкой, серьезной и обещать то, что я и не думала делать.
У меня началась ностальгия по годам в деревне и на заводе, когда меня более — менее не трогали. Университеты контролировались гораздо жестче, потому что представляли особый интерес для мадам Мао. Теперь я находилась среди людей, извлекших пользу из «культурной революции». Без нее многие из них здесь не оказались бы.
Однажды нескольким студентам нашего курса поручили составить словарь английских сокращений. Факультет решил, что существующий «реакционен», потому что, разумеется, он содержал гораздо больше «капиталистических», чем «идейных» аббревиатур. «Почему у Рузвельта есть сокращение — ФДР, — а у Председателя Мао нет?» — возмущенно спрашивали некоторые студенты. Они с торжественной серьезностью подбирали подходящие словарные статьи, но в конце концов вынуждены были отказаться от своей «исторической миссии», потому что правильных сокращений явно не хватало.
Меня эта обстановка выводила из себя. Я понимала причины невежества, но не могла принять его прославления, а тем более предоставляемого ему права решать все вокруг.
Нас часто посылали заниматься вещами, не имевшими никакого отношения к нашей специальности. Мао провозгласил, что мы должны «учиться на заводах, в деревне и военных частях». Чему именно мы должны там учиться, как всегда, не уточнялось. Мы начали с «обучения в деревне». Когда я только поступила на первый курс, весь университет на неделю отправили в местечко под Чэнду, называвшееся Источник у Драконьей горы. Этому населенному пункту не повезло — его посетил один из вице — премьеров, Чэнь Юнгуй. Когда — то он возглавлял сельскохозяйственную бригаду Дачжай в северной гористой провинции Шаньси; эта бригада стала для Мао образцовой сельскохозяйственной единицей, видимо, потому, что работа ее основывалась на революционном энтузиазме крестьян, а не на материальных стимулах. Мао не заметил или не пожелал заметить, что заявляемые достижения Дачжая мало соответствовали действительности. Когда вице — премьер Чэнь приехал в Источник у Драконьей горы, он воскликнул: «О, у вас тут горы! Сколько же полей тут можно устроить!» — словно плодородные холмы, покрытые фруктовыми садами, походили на голые горы его родной деревни. Но его замечания имели силу закона. Толпы студентов взорвали сады, снабжавшие Чэнду яблоками, сливами, персиками и цветами. Издалека мы привозили на тележках и приносили на коромыслах камни, чтобы разбить террасированные рисовые поля.
В этом деле обязательно требовалось демонстрировать усердие, как и во всех остальных делах, к которым призывал Мао. Прилежание многих моих товарищей просто бросалось в глаза. Меня же считали недостаточно старательной, во — первых, потому, что я с трудом скрывала отвращение к этому занятию, а во — вторых — потому, что я мало потела, как бы тяжело ни работала. Студентов, у которых пот тек ручьем, хвалили на ежевечерних собраниях.
Разумеется, учащиеся проявляли больше энтузиазма, чем профессионализма. Динамитные бруски, которые они вставляли в землю, обычно не взрывались — к счастью, потому что никаких мер безопасности не принималось. Каменные ограждения, выложенные нами вокруг полей, вскоре рассыпались, и ко времени нашего отъезда, через две недели, горный склон представлял собой пустырь, покрытый воронками от взрывов, бесформенными цементными глыбами и грудами камней. Это мало кого волновало. Все это предприятие было лишь спектаклем, театральным представлением — бессмысленным средством во имя бессмысленной цели.
Я ненавидела эти поездки, меня глубоко возмущало, что наш труд и само наше существование использовались для низкопробной политической игры. Такое же раздражение переполняло меня, когда в конце 1974 года всех нас послали в воинскую часть.
Военный лагерь, до которого мы из Чэнду часа два добирались на грузовике, располагался в чудесном месте, в окружении рисовых полей, цветущих персиковых деревьев и бамбуковых рощ. Но проведенные там семнадцать дней показались мне годом. Каждое утро я задыхалась от долгих кроссов; все мое тело покрывали синяки — нужно было падать и ползать под воображаемым огнем «танков противника»; я изнемогала от многочасовых учений, во время которых куда — то целилась из винтовки и бросала деревянные гранаты. Все это я должна была выполнять умело и с воодушевлением — а вместо этого демонстрировала полное отсутствие необходимых навыков. Мне не могли простить, что я сильна только в английском — в своей специальности. Военные учения имели политическое значение, и я обязана была себя в них проявить. Забавно, но в самой армии за меткость и прочие воинские доблести солдат мог попасть в «белые спецы».
Я попала в горстку отверженных, которые бросали деревянные гранаты на такое опасно малое расстояние, что нас не допустили до торжественного метания настоящей гранаты. Наша жалкая компания сидела на вершине холма и вслушивалась в доносящиеся взрывы. Одна девушка разрыдалась. Я тоже чувствовала себя не в своей тарелке: я в очередной раз продемонстрировала всем свою «белизну».
Вторым испытанием была стрельба. По дороге на стрельбище я говорила себе: ни за что нельзя провалить и это. Когда меня вызвали и я легла на землю, я не увидела в мушке мишени — глаза застилала тьма. Я не видела ни цели, ни земли, ничего. Меня трясло, я чувствовала, что меня покинули все силы. Команда «пли!» прозвучала слабо, словно из — за дальних облаков. Я нажала на курок, но ничего не увидела и не услышала. Проверив мишень, инструкторы пришли в недоумение — ни одна из десяти выпущенных мною пуль не попала даже в щит, не говоря уже о мишени.
Я не поверила собственным глазам. У меня было стопроцентное зрение. Я сказала инструктору, что у винтовки, наверно, гнутый ствол. Он, кажется, мне поверил: результат был слишком плохим, чтобы объясняться одной моей неловкостью. Мне дали другую винтовку, что вызвало жалобы со стороны других неудачников, безуспешно просивших разрешения перестрелять. Во время второго подхода мне повезло чуть больше: две из десяти пуль попали во внешние круги. Тем не менее мое имя оказалось последним в общеуниверситетском списке. Я смотрела на результаты, вывешенные на стене, словно дацзыбао, и ощущала, что моя «белизна» стала еще ослепительнее. Один из студентов — партработников саркастически заметил: «Ха! Второй подход! Если у нее нет классовых чувств, классовой ненависти, ей и сто подходов не помогут!»
Вся в своих переживаниях, я почти не замечала солдат, крестьянских парней двадцати с чем — то лет, которые нас обучали. Только один случай привлек к ним мое внимание. Как — то вечером девушки сняли с веревки свое белье и увидели на трусах явные следы спермы.
В университете я нашла приют в домах профессоров и преподавателей, получивших работу до «культурной революции», благодаря своим знаниям. Несколько профессоров успели побывать в Англии и Америке до прихода коммунистов к власти, и я чувствовала, что могу расслабиться и говорить с ними на одном языке. Тем не менее, они соблюдали осторожность. После многолетних репрессий так вели себя почти все интеллектуалы. Мы избегали разговоров на опасные темы. Жившие когда — то на Западе редко предавались воспоминаниям об этом периоде своей биографии. Преодолевая мучительное любопытство, я не задавала им никаких вопросов, дабы не поставить их в трудное положение.