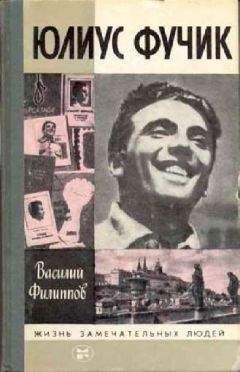Впрочем, разве мы, обитатели камер, живущие непосредственно среди этого ужаса, сделаны из другого теста?
Иногда случалось, что по пути на допрос охрана в полицейском автомобиле вела себя более или менее мирно. Через окошечко я смотрел на улицы, витрины магазинов, на киоски с цветами, на толпы прохожих, на женщин. Как-то я загадал, что если по дороге я увижу девять пар хорошеньких ножек, то вернусь с допроса живым. И вот я стал считать, рассматривать, сравнивать: я внимательно изучал линии ног, одобрял и не одобрял их с неподдельным увлечением, как, вероятно, не оценивают ножки, если от этого не зависит жизнь.
Обычно я возвращался в камеру поздно. Папашу Пешека уже начинал мучить вопрос: вернусь ли я вообще? Он обнимал меня; я коротко рассказывал последние новости, сообщал, кто еще расстрелян вчера в Кобылисах, а потом мы с аппетитом съедали ужин из противных сушеных овощей, затягивали веселую песню или с ожесточением играли в кости, в эту глупейшую игру, забыв обо всем на свете. И как раз в те самые вечерние часы, когда в любой момент дверь нашей камеры могла открыться и посланник смерти мог скомандовать одному из нас:
«Вниз! С вещами! Живо!»
Но нас так тогда и не вызвали. Мы пережили это страшное время. Теперь, вспоминая о нем, мы удивляемся самим себе. Как поразительно устроен человек, если он выносит самое невыносимое!
Эти минуты не могли, конечно, не оставить в нас глубокого следа. Вероятно, все хранится в какой-нибудь извилине мозга, как свернутая кинолента, которая начала бы с бешеной быстротой разматываться в один из дней настоящей жизни, если бы мы дожили до этого дня. Но, может быть, мы увидели бы на экране вместо огромного кладбища только зеленый сад, где посеяны драгоценные семена.
Драгоценные семена, которые дадут всходы!
Глава VII. ЛЮДИ И ЛЮДИШКИ. 2.
(ПАНКРАЦ)
Тюрьма ведет две жизни. Одна проходит в запертых камерах, тщательно изолирована от внешнего мира и тем не менее всюду, где есть политические заключенные, связана с ним самым тесным образом. Другая течет вне камер, в длинных коридорах, в тоскливом полумраке; это замкнутый в себе мир, затянутый в мундир, изолированный больше, чем тот, что заперт в камерах, – мир множества людишек и немногих людей. О нем я и хочу рассказать.
У этого мира своя физиология. И своя история. Если бы их не было, я не мог бы узнать его глубже. Я знал бы только декорацию, обращенную к нам, только поверхность этого мира, цельного и прочного на вид, чугунного тяжестью легшего на обитателей камер. Так это было год, даже еще полгода назад. Сейчас поверхность изборождена трещинами, а сквозь трещины проглядывают лица – жалкие, приветливые, озабоченные, смешные, – словом, самые разнообразные, но всегда выражающие сущность человека. Режим гнета наложил отпечаток и на обитателей этого мрачного мира, и на его фоне светлыми пятнами выделяется все, что есть там человеческого. Иные едва заметны, другие при ближайшем знакомстве выделяются яснее; и среди них имеются разные типы. Можно найти здесь, конечно, и несколько настоящих людей. Чтоб помогать другим, они не ждали, пока сами попадут в беду.
Тюрьма – учреждение не из веселых. Но мир вне камер мрачнее, чем в камерах. В камерах живет дружба, и еще какая! Такая дружба возникает на фронте, когда людям угрожает постоянная опасность, когда сегодня твою жизнь спасает товарищ, а завтра ты спасешь его. При существующем режиме среди надзирателей-немцев дружбы почти нет. Она исключается. Они живут в атмосфере предательства, слежки, доносов, каждый остерегается своих сослуживцев, которых официально называет «камарадами»; лучшие из них, кто не может и не хочет обойтись без друзей, ищут их… в камерах.
Мы долго не знали надзирателей по именам. Но это не имело значения. Между собой мы называли их кличками, которые дали им мы или наши предшественники и которые переходят по наследству. У одних столько же прозвищ, сколько камер в тюрьме; это заурядный тип, «ни рыба ни мясо» – здесь он дал добавку к обеду, там дал пощечину; и то и другое – факты случайные, тем не менее они надолго остаются в памяти камеры и создают одностороннее представление и одностороннюю кличку. Но некоторые получают одинаковое прозвище во всех камерах. У этих характер четко выражен. То или это. В хорошую или дурную сторону. Всмотрись в эти типы! Всмотрись в эти фигурки! Ведь как-никак они набраны не с бору по сосенке. Это часть политической армии нацизма. Особые избранники. Столпы режима. Опора общественного порядка…
Высокий толстяк, говорит тенорком. «СС-резервист» Рейсе, школьный сторож из Кельна. Как все служители немецких школ, прошел курс первой помощи и иногда заменяет тюремного фельдшера. Он был первым из надзирателей, с которым я здесь познакомился. Это он втащил меня в камеру, положил на матрац, осмотрел раны, приложил первые компрессы. Пожалуй, он действительно помог сохранить мне жизнь. Что в этом сказалось: человечность или курсы первой помощи? Не знаю. Но, в общем, в нем все-таки проявлялся отъявленный нацист, когда он выбивал зубы заключенным евреям и заставлял их глотать полную, с верхом, ложку соли или песку как универсальное средство от всех болезней.
Добродушный, болтливый парень, по имени Фабиан, возчик с Будеёвицкой пивоварни. Он входил в камеру с широкой улыбкой на лице, приносил заключенным еду, никогда не дрался. Не верилось даже, что он часами простаивает за дверью, подслушивая разговоры заключенных, и доносит по начальству о самых ничтожных пустяках!
Тоже рабочий и тоже с Будеёвицкой пивоварни. Здесь много немецких рабочих из Судет. «Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель отдельный пролетарий или даже весь пролетариат, – писал однажды Маркс. – Дело в том, что такое пролетариат и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет сделать». Эти судетские действительно ничего не знают о задачах своего класса. Отторгнутые от него, противопоставленные ему, они идейно повисли в воздухе и, вероятно, будут висеть и в буквальном смысле слова.
Он пришел к нацизму, рассчитывая на более легкую жизнь. Дело оказалось сложнее, чем он себе представлял. С той поры он утратил способность смеяться. Он поставил ставку на нацизм. Оказалось, что он ставил на дохлую лошадь. С той поры он утратил и самообладание. По ночам, расхаживая в мягких туфлях по тюремным коридорам, он машинально оставлял на пыльных абажурах следы своих грустных размышлений.
«Все пошло в нужник» – поэтически писал он пальцем и подумывал о самоубийстве.
Днем от него достается и заключенным и сослуживцам, он орет визгливым, срывающимся голосом, надеясь заглушить страх.
Тощий, долговязый, говорит грубым басом, один из немногих, способных искренне рассмеяться. Он рабочий-текстильщик из Яблонца. Приходит в камеру и спорит. Целыми часами.
– Как я до этого дошел? Я десять лет не работал по-человечески. А с двадцатью кронами в неделю на всю семью – сам понимаешь – какая жизнь? А тут приходят они и говорят: мы дадим тебе работу, иди к нам. Я пошел. Работу дали. Мне и всем другим. Сыты. Есть крыша над головой. Можно жить. Социализм? Ну, положим, что не социализм. Я, конечно, представлял себе все по-другому. Но так все-таки лучше, чем было… Что? Война? Я не хотел войны. Я не хотел, чтоб другие умирали. Я сам хотел жить… Я им помогаю, хочу я того или нет! Что же мне остается делать? Разве я здесь кого-нибудь обижаю? Уйду я – придут другие, может быть, хуже меня. Этим я никому не помогу! Что ж, кончится война, вернусь на фабрику… По-твоему, кто выиграет войну? Не мы? Значит, вы? А что тогда будет с нами?… Конец? Жаль! Я представлял себе все иначе. – И он уходит из камеры, волоча свои длинные ноги.
Через полчаса он возвращается с вопросом: как же в самом деле выглядит все в Советском Союзе?
Однажды утром мы ждали внизу, в главном коридоре Панкраца, отправки на допрос во дворец Печека. Нас ставили всегда лицом к стене, чтобы мы не видели, что делается сзади. Вдруг раздался незнакомый мне голос:
– Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете!
Я засмеялся. При здешней муштровке слова жалкого тупицы подпоручика Дуба из «Швейка» действительно пришлись как нельзя более кстати. Но до сих пор никто не решался произнести эту шутку во всеуслышание. Весьма ощутимый толчок более опытного соседа предупредил меня, дав понять, что смеяться нельзя, что это, по-видимому, сказано всерьез. Это была не острота. Отнюдь нет.
Эти слова произнесло крошечное существо в эсэсовской форме, не имеющее, очевидно, о Швейке никакого понятия. Оно цитировало подпоручика Дуба потому, что было родственно ему по духу. Оно отзывалось на фамилию «Витан» и когда-то служило на сверхсрочной службе фельдфебелем в чехословацкой армии. Существо сказало правду. Мы его действительно основательно узнали и говорили о нем не иначе, как в среднем роде: «оно». Говоря по совести, наша фантазия истощилась в поисках меткой клички для этой смеси убожества, тупости, чванства и жестокости, составляющих краеугольные камни панкрацского режима.