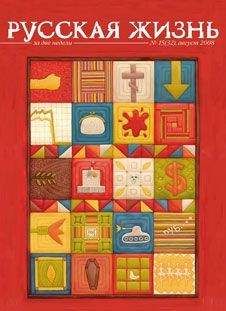А еще было что-то очень существенное в самой личности Александра Исаевича, что заставляло считать его образцом, эталоном поведения человека, и то был вовсе не «антилиберализм», «антисоветизм» и прочие ярлыки в том же роде. Обаяние Солженицына, которое так явно чувствует всякий, кто открывает его автобиографические сочинения, исходило от его немыслимого жизнелюбия: вся его жизнь есть, если угодно, урок по борьбе с унынием. Реальность - любая реальность, а не только крайняя по жестокости, лагерная - обыкновенно направлена против человека, превосходящего общее место. А уж тот мир, в котором провел большую часть жизни А. И., и вовсе не оставлял ни единого шанса на рискованную самостоятельность. И все-таки он разгромил эту бетонную объективность. Учитель математики, он опроверг всю печальную арифметику, которая полагалась ему, как родившемуся в 1918 году, а затем еще и призванному, посаженному, заболевшему, преследуемому. И в итоге даты жизни его на могиле будут напоминать старые фантастические романы - ведь сама цифра 2008 уже говорит человеку двадцатого века о том, что трудное настоящее пережито, и наступило какое-то далекое смутное завтра, по всей вероятности, более спокойное и счастливое. Но все-таки этот страшный, хотя и бодрый, веселый, как и «Архипелаг», урок его биографии еще пригодится, когда арифметика русской истории снова примется делить и вычитать растерянных людей.
Но кроме долголетия публицистики Солженицына, значения его личности и бессмертия его прозы, есть и еще одно важное обстоятельство, связующее его имя с будущим.
Сейчас, в траурные дни, принято говорить о том, что скончался последний великий русский писатель, ушел последний классик. Никак не желая задеть чувства произносящих эти слова, не могу согласиться. Думать так - значит перечеркивать все то общественное, чему посвящал себя Александр Исаевич, отрицать ту любовь к отечеству и ко всему русскому (русскому, а не фальшиво-«российскому»!), которой он отличался всю жизнь.
Ведь если работа Солженицына не была напрасной - он не будет последним. Он и сам, как мне кажется, совсем не хотел бы закрывать собой и большую русскую литературу, и традицию всеотзывчивых писателей, ответственных за все, что делается в нашей несчастной России. Русская речь, бесценной частью которой стали его вещи, обязательно подарит нам продолжателей его трудов. Тех, кто, отвергнув гнусно мельтешащую моду и общие места эпохи, откроет, ему вслед, словарь Даля и сочинит новые дивные книги.
И мне кажется, что Александр Исаевич, родственный всякому волнующему слову, сочиненному по-русски, с высоты тех невидимых мест, куда определит его Господь, благословит эту работу.
Дмитрий Быков
Свободное время
В июле - рано, в сентябре - поздно
I. Опыт климатического обоснования
Существуют вещи недоказуемые и неопровержимые: цирковым лучше не садиться спиной к манежу, подкова помогает и верящим, и неверящим (Нильс Бор), хода нет - ходи с бубей (рациональное обоснование отсутствует, но проверено многажды), дерьмо снится к деньгам (обоснование существует, но многословно и зыбко), зимние дети крепкие и т. д. Все это - из разряда народных мудростей, установленных экспериментально, но не имеющих внятной причины. Ниже предпринимается попытка выяснить, почему август в северном полушарии вообще и в России в частности - тревожный, часто катастрофический месяц. На это можно много и аргументированно возражать, но толку от этих возражений чуть. Стереотип в народном сознании никогда не формируется на ровном месте: фольклор не обманешь. А народ у нас боится августа, как боялась его Ахматова, в чьей жизни самое ужасное происходило именно на исходе лета. Правда, умерла она в марте, но это, может, как раз было не ужасом, а освобождением для лучшей жизни, в которую многие (и я иногда) искренне верят.
У меня был как-то на эту тему диалог - даже опубликованный - с филологом и мыслителем, чья профессия как раз и состоит в определении неопределимого; он умеет любой текст разложить по полочкам, разобрать по косточкам и выявить-таки механизмы его воздействия на читателя - ему ли не сладить с августом? Он принялся аргументированно доказывать, что в июне, октябре, ноябре, да во всяком решительно месяце у нас происходит множество больших и малых катастроф, то есть дело далеко не во времени года. Хрущев, скажем, тоже разделял это суеверие и очень боялся, что его снимут в августе, даже в отпуск уходил только в октябре. Вот его и сняли в октябре. Путч 1991 года? Но куда травматичнее и страшнее был октябрьский мятеж два года спустя. Корниловский поход на Петроград? Но опять-таки он завершился бескровно, а вот через два с половиной месяца… Дефолт? Но сравнима ли августовская паника девяносто восьмого с январской шестьдесят первого, когда в стране грянула готовившаяся в строгой секретности денежная реформа? Ввод войск в Чехословакию 20 августа 1968 года? Но разве Афганистан (декабрь 1979) не был тысячекратно ужаснее по последствиям? Что касается техногенных катастроф августа, все это бледнеет перед апрелем Чернобыля. Словом, попытки привязаться к августу и локализовать ЧП - не что иное, как попытка россиян внести хоть какой-то порядок в исторический и интеллектуальный хаос, который образовался у них на месте мировоззрения и науки.
Согласиться с этим было бы легче всего, кабы не собственная физиология, не это струнное, дрожащее напряжение, столь ощутимое во всем теле с началом августа. Это мой любимый месяц, потому что в этом-то лихорадочном напряжении и являются лучшие мысли, и вообще я, признаться, люблю, когда в воздухе носится нечто тревожное: тревога мобилизует лучшие качества - быстроумие, наблюдательность, реакцию, особенно если речь идет не о низменном страхе за собственную шкуру, а о возвышенном ожидании великих перемен. Думаю, дело не в статистическом распределении неприятностей по месяцам (здесь август действительно ничем не выделяется), а в его, так сказать, лице, в специфическом климате этого месяца, знаменующего вступление России в полосу осенне-зимней хмари. Лучше всего запоминается событие, резонирующее с нашим внутренним со- стоянием. Так, оптимистическая книга, прочитанная во дни депрессии, не оставит в душе никакого следа - а что-нибудь мрачное, пусть и не Бог весть каких достоинств, покажется глубочайшим и точнейшим шедевром. Перечитаешь потом в нормальном состоянии - батюшки, что же я там увидел? Но совпадение собственных настроений и внутренних колебаний с авторскими непоправимо смещает оценку: про объективность можете забыть. Так и с августом: это месяц, больше всего похожий на кризис среднего возраста. Мироощущение августа катастрофично. Только что был июль, все цвело и пахло, завязывалось и зрело, нежилось в мареве, под поцелуями золотого змея, по-сологубовски говоря (ужасно привязчивы штампы серебряного века, пошлость потому и живуча, что человечна и всем понятна). И вдруг - незаметный перелом, переход в новое состояние, совершающийся чаще всего за одну ночь. Цветочки кончились, пошли ягодки. Нет, мы еще в соку и в силе, и осенью еще толком не пахнет, и небо еще синее… но вот как раз с неба все и начинается: синева его уже тревожна. И ветер сильней, порывистей, и холод в нем уже настоящий, нешуточный, и вообще - горькая струя зрелости уже примешалась к летней сладости. Большинство потому и торопится в отпуск именно в августе, что нет ничего слаще последних капель.
Об этом состоянии - как о многих, впрочем, - самые точные стихи написала Новелла Матвеева: «Пробрезжил красным листик темной зелени, роса упала, волос поседел. Скажи, когда они все это сделали? И в щелку-то никто не подглядел! И может быть, тропинкой цвета финика по желтым листьям в рощу забредешь и паутинку, словно ленту финиша, на самой середине разорвешь. И далее по этой же тропинке пойдешь не так, как шел до паутинки».
Август - время зрелого всепонимания на краю гибели, потому что в сентябре, надо заметить, природа уже примиряется с распадом. В октябре этот распад приобретает характер лавинообразный, и думаешь уже только о том, как спастись, забиться в нору, пересидеть зиму, греясь и грея детенышей. В августе еще есть время рассуждать о чем-то, кроме выживания. Глядеть по сторонам. Подводить итоги. Август - время свободное, отпускное, и потому есть минута, чтобы вспомнить, отчаяться, простить, примириться, нужное подчеркнуть. В сентябре дети уже идут в школу, родители - на работу, старики сидят с внуками, жить, слава Богу, опять некогда. Пресловутый наш трудоголизм - совершенно, в общем, бесполезный, потому что ничего нового и прекрасного страна, увы, не производит - это ведь еще и бегство от вопросов, стремление занять себя так, чтобы не оставалось секунды на осознание. Август - пауза, выдох года, балансирование на краю; немудрено, что мысли в это время приходят примерно такие же, как и на пресловутом рубеже «тридцать семь - сорок». Помню, как в ответ на признание, что к тридцати семи совершенно замучила ипохондрия и сестра ее мизантропия, Аксенов с чисто врачебной уверенностью предупредил: до сорока будет колбасить, потом отпустит, словно ничего и не было. Как в воду глядел.