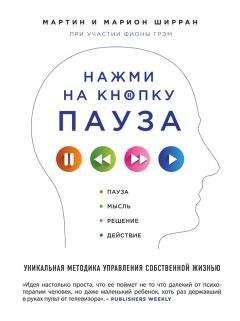Попробуем обратиться к первоисточнику — к уже цитированным выше автобиографическим записям Ахматовой (на сей раз — «Prodomo теа»), благо они доступны теперь всем, в том числе и Кушнеру.
«[А] для Н<иколая> С<тепановича> я была чем-то средним между Семирамидой и Феодорой. (А еще Дева Луны в «Пути конквистадоров»). Мои атрибуты всегда — Луна и жемчуг. («Анна Комнена»). У Амед<ео> наоборот: он был одержим Египтом и поэтому ввел меня туда»[39].
Понятно, кто Николай Степанович (Гумилев), кто — Амедео (Модильяни), кстати, записанный еще одним ахматоведом или ахматолюбом, уж не знаю, как лучше назвать Б. Носика, автора книжки «Анна и Амедео», в любовники Ахматовой (сама же А. А. утверждает, что даже на «ты» у Модильяни не было никаких оснований).
Так вот — облик и поведение А.А., запечатленные ею, то есть автопортреты, категорически разнятся от чисто мифологических уподоблений и от кушнеровского портрета тоже. Она сама себя знала, как никто другой.
«Я ехала летом 1921 года из Царского Села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все — даже знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую "Сафо", но… спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. "Эта не пропадет", — сказал один из них про меня. Стихотворение было: "Не бывать тебе в живых…" См. дату в рукописи — 16 августа 1921 (может быть, старого стиля)»[40].
И тут же рядом, на следующих страницах торжественно именуемой издателями «записной книжкой № 11», на самом деле — «школьной тетради в серой обложке с печатной надписью: "Тетрадь"» (на последней странице обложки метрическая система мер, таблица умножения), то есть тетради самой обыкновенной, ученической, в клеточку, Ахматова набрасывает еще один автопортрет, вспоминая себя несколькими годами (десятилетием?) спустя:
«Какие-то получаемые мною гроши я отдавала Луниным за обед (свой и Лёвин) и жила на несколько рублей в месяц.
Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое-как заштопанных чулках и в чем-то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень худая, очень бледная — вот какой я была в это время. И это продолжалось годами»[41].
Мало похоже на царскосельскую утонченно-бледную, изысканно-горбоносую красавицу кисти Н. Лунина (а уж ему, с его хищным глазом профессионального искусствоведа, в визуальной наблюдательной точности никто и никогда отказать не мог).
Еще меньше — на Анну Аркадьевну Каренину в изображении как Льва Николаевича, так и Александра Семеновича.
Это пишет не только поэт о поэте — это пишет поэт о женщине, и женщина о женщине. Безрадостно, безыллюзорно. Точно ли? По крайней мере, не приукрашенно. Бедность, если не нищета (в последнем описании), ловкость, выживаемость (в первом). Не более того. Куда Карениной до Ахматовой (кстати, на железной дороге)!
Небольшое отступление — о «сокровенных мыслях и мотивах», о «подсознании», которое «выносит на поверхность и диктует».
Не так давно Александр Кушнер в «Арионе» разгневанно и даже ядовито прокомментировал воспоминания Эммы Герштейн о Надежде Яковлевне Мандельштам, сначала напечатанные в «Знамени» (1998, № 2), а позже вошедшие частью в большую книгу ее воспоминаний («ИНА-Пресс», 1998). Общий пафос строгих замечаний Кушнера сводился к тому, что выносить на поверхность сор отношений, обсуждать открыто интимные детали и подробности быта, частную жизнь ушедших поэтов и их окружения не следует. А уж если прибегать к такого рода воспоминаниям, то делать это надо чрезвычайно осторожно.
Позиция Кушнера, выговаривающего Эмме Григорьевне за Надежду Яковлевну, высоконравственна. Он считает, что Герштейн превысила свои «полномочия» представителя эпохи, воспользовалась тем, что «пережила» всех и теперь обладает как бы последним словом — никто не может ей ответить.
Однако если его позиция — пусть для меня в этом частном случае неубедительная — тверда, то она должна но справедливости распространяться не только на Эмму Герштейн, но и на других деятелей эпохи. Если это принцип, то почему же он в одном случае применяется, а в другом — легко нарушается?
Что касается эссе «Анна Андреевна и Анна Аркадьевна», то здесь нарушение двойное.
Во-первых, Кушнер заходит слишком далеко в своих предположениях, не только сравнивая (и подравнивая) литературную героиню и реального поэта (что, повторяю, само по себе вызывает недоумение). Не говоря уж о фамильярности — почему, собственно, поэта Анну Ахматову читателю преподносят как некую даму но имени Анна Андреевна? Сама Ахматова, как известно, ядовито комментировала обращение «мадам» — как будто где-то должен быть и «мсье Ахматов»… Сам Кушнер к Ахматовой особо приближен, как известно, не был. Существует зафиксированный в мемуарах С. Липкина ахматовский отзыв о молодом поэте (догадаться нетрудно, о ком идет речь): «Изящен, но мелок». В то же время во всех воспоминаниях, в «Записных книжках» Ахматовой, во множестве книг разбросаны свидетельства о ее дружественном, теплом и участливом отношении к другим ленинградским молодым поэтам, ровесникам Кушнера, — Иосифу Бродскому, которого она ценила особо, Дмитрию Бобышеву, Анатолию Найману и Евгению Рейну. Не хочу приближать возможную мысль о намеренно запоздалом мщении — мщении тогда, когда уже не сможет ответить она сама, не дающая покоя многим мужчинам, пишущим в рифму, вне зависимости от их идеологической ориентации — от Юрия Кузнецова, в конце 70-х написавшего вполне издевательскую заметку об ахматовском женском (даже «бабском» в изложении и трактовке Ю. Кузнецова) «самолюбовании» в «ста зеркалах», о «кокетстве» и эгоцентризме, до Александра Кушнера.
Кушнер, правда, идет намного дальше Кузнецова (и здесь уже стоит мое «во-вторых»), дальше Б. Эйхенбаума (книгу которого — 1923 года — Ахматова назвала бесстыдной), дальше В. Перцова, объявившего в 1925 году: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», дальше многих и многих западных «исследователей» и славистов, чего (и кого) только Ахматовой не приписывавших. Собственно, заходит туда, куда уж его никак не приглашала «Анна Андреевна», — в спальню, и заводит туда же новомирского читателя. На конкретных высказываниях Кушнера остановимся позже — сейчас речь только о методах, вернее, о «сокровенном», о «подсознании». Потому что если находиться на уровне сознания, то странно после полемики о методах с Эммой Герштейн не то чтобы категорически отвергнуть их в своей работе, а, напротив, использовать их, пародийно утрировав.
В ряду «исследователей» и следователей, кроме вышеупомянутых, найдется и обнаружится много имен. Излагая свои замечания к написанным по ее просьбе воспоминаниям подруги ио Царскосельской гимназии В. С. Тюльпановой (Срезневской по мужу), Ахматова записывает: «Критика Голлер<баха>, Рождественск<ого> и т. п. (сбор сплетен, вранья)»[42]. Резко? Да, резковато, как и непоэтическое определение «скотство», которое возникает в «Записных книжках» в связи с публикацией о Мандельштаме некоего Шацкого, воспользовавшегося информацией из недобросовестных источников. «У Ш<ацкого> под рукой две книги достаточно "пикантных" мемуаров — Г. Иванов и Эренбург <…> Он объявляет, что на стихотворении "Музыка на вокзале" Мандельштам кончился, стал жалким переводчиком (М. почти ничего не переводил), бродил по кабакам и т. д. (Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова), и вместо трагической фигуры [замечательного] редкостного поэта, который и в годы ссылки в Воронеже продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем "городского сумасшедшего", проходимца, опустившееся существо. И это в книге, вышедшей под эгидой лучшего и т. д. университета Америки (Гарвардского). [Да будет стыдно "лучшему" университету Америки и тем, кто допустил такое скотство]»[43]. И дальше записывает:
Непогребенных всех —
я хоронила их,
Я всех оплакала, а кто
меня оплачет.
Ахматова отстаивала достоинство ушедших. Биографии тех, кого помнила и знала, защищала от искажений и посягательств. Долгие годы и до конца своей жизни упрямо и последовательно боролась за точное воспроизведение реалий жизни, за адекватное изложение биографии Н. Гумилева, — множество записей свидетельствует об этом.