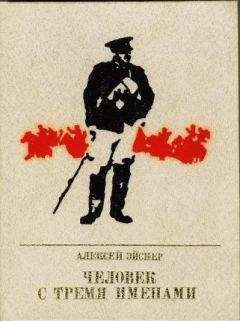Убийцы тем временем работали. Леррус боялся смертных приговоров, он предпочитал тихую работу легионеров. Среди последних особенно отличились русские белогвардейцы. В Овьедо молоденький рабочий Диего Сантес, не разбираясь толком в мировой политике и узнав, что среди солдат имеются русские, с доверием кинулся к светлоглазому капралу: «Товарищ русский, не нужно меня расстреливать. У меня старуха мать!..» Капрал усмехнулся: «Ага, – товарищ!» Он увел Диего Сан-теса в сторону, чтобы там, глумясь, его прикончить. В Овьедо приехал буржуазный журналист Луис де Сирваль. Его задержали на улице и отвели в штаб. Офицер иностранного легиона, белогвардеец Иванов, спросил у журналиста: «Зачем вы приехали в Овьедо?» – «Чтобы выяснить на месте правду». Тогда сеньор Иванов вынул револьвер и застрелил Сирваля: «Вот тебе правда!»
Газета «Эпока» пишет: «Только не милосердие! Как истинные христиане мы будем сегодня молиться богу за павших солдат, за то, чтобы правосудие свершилось. Смерть красным убийцам!» Газета «Эль-Дебате» требует расстрелов: «Чем меньше теперь будет шахтеров в Астурии, тем легче умиротворить этот край. Что касается угля, то уголь мы сможем покупать за границей». Таковы эти христиане и эти патриоты.
Король Альфонс, который, притаясь, ждет своего часа, прислал щедрый дар: пятьдесят тысяч песет героям гвардейцам. Так господин, находясь даже в отлучке, заботится о своих слугах. Леррус, тот куда скупее: он ограничивается орденами и нашивками. Полковники становятся генералами: это война все же была легче, нежели марокканская! Генералы скромно говорят друг другу, что [62] пушками и самолетами можно, пожалуй, победить рабочих, у которых только винтовки и отвага.
Но неспокойны генералы, и неспокоен Леррус. Кажется, они могли бы торжествовать: вместо Овьедо – развалины. Могильщики не могут справиться с работой. На подмогу им посланы саперы. Но все же тревожен Мадрид. Повстанцы все еще бродят по снежным горам Астурии. Вчера самолеты скидывали воззвания: «Сдавайтесь, и мы простим всех, кроме членов революционных советов!». Они скидывали воззвания и бомбы. Повстанцы стреляли в них из винтовок. Генерал Лопес Очоа сказал, что метель препятствует удачному завершению операции. Когда метель уляжется, войска захватят последние отряды Красной армии.
Может быть, он и прав. Метель скоро уляжется, метель, но не революция. Храбрый генерал не понимает одного: то, что было в Астурии, это не бунт, даже не восстание, это только один из эпизодов испанской революции. За угольщиками Астурии придут шахтеры Бискайи, литейщики Сагунто, рабочие Севильи и Барселоны, батраки Андалусии и Эстремадуры. Придет и для Испании день ее праздника. Но теперь как пусто, как страшно в Астурийских горах! Воет ветер. Кружат самолеты. Красноармейцы сжимают в коченеющих руках так тяжело доставшиеся им винтовки, и, может быть, один из них поет вполголоса старую испанскую песню: «Мое украшение – оружие. Мой отдых – сражаться. Моя кровать – это жесткие камни. Мой сон – всегда бодрствовать».
ноябрь 1934
Женщины Испании
Когда веселая француженка Бланш, которой суждено было стать испанской королевой, переехала через Пиренеи, она улыбалась. Ее отвезли в Эскуриал. Ночью к ней пришел ее супруг, христианнейший повелитель Испании. Впереди шел духовник с распятием, за ним мажордом с ночной посудиной, за мажордомом две старые дуэньи, похожие на ведьм, за ведьмами ступал молодой супруг. Бланш еще улыбалась. Тогда дуэнья сказала ей: [63]
– В этой стране женщины не улыбаются. В этой стране женщины молятся.
Дон Хиль Роблес… недавно сказал:
– Место женщины в церкви, на кухне и в кровати.
Я видал в Бадахосе, в Малаге, в Саморе тысячи коленопреклоненных женщин. Священники… пугают женщин адом, они говорят о щипцах, которыми черти вырывают груди, о кипящем масле, в которое ввергают грешниц. Настоятель иезуитского монастыря в Саламанке собрал купцов, помещиков и полковников. Он улыбнулся, покрутил богомольно пальцами и сказал:
– Девочку не следует учить грамоте: ее следует учить повиновению.
Дочь буржуа не смеет выйти одна на улицу. На юге она разговаривает с женихом через решетку, как арестант или как зверь. Нашлись сотни поэтов, которые воспели эту решетку. Впрочем, нет той лжи и того позора, которого не воспели бы сотни поэтов.
Когда женщина проходит по улицам, вылощенные адвокаты, сыновья банкиров, офицеры гвардии неизменно чмокают губами и кричат: «Милашка!» Они чмокают губами, видя студенток с книгами, работниц, женщин, темных от горя, каталонских революционерок, мужья которых расстреляны, женщин Астурии, мужья которых погибли в шахтах, они всем снисходительно кричат: «Милашка!» Диктатор Испании Примо де Ривера особым декретом запретил этот ритуал: он хотел сделать из Испании корректное полицейское государство. Но он был воспитан теми же дуэньями и теми же иезуитами. Его губы невольно шевелились: он чмокал, кричал «милашка» и здесь же уплачивал штраф.
Я видел в Мурсии дом: там сидела женщина, совершившая тяжкое преступление, – она осмелилась сойтись со своим возлюбленным без благословения апостольской церкви. Родители заточили ее. Четыре года она просидела в темной комнате. Ей подавали еду и показывали на распятие: «Молись!»
Либеральные адвокаты и учителя не раз говорили мне: «Наши жены сидят дома. Мы не берем их ни в кафе, ни в клуб; они слишком глупы; их нельзя показать людям».
Работницы и батрачки Испании работают, как пятьсот лет назад. Об этой работе мог бы рассказать Данте. О ней сухо сказано в договорах о найме: «От зари до зари». [64]
Гранада – это имя звучит, как песня. В прекрасной Гранаде прекрасные женщины стоят у станков. Они работают в темных, зловонных мастерских. Они работают по 12 часов в сутки. Они получают в день 2 песеты…
В Лас-Урдесе я видал крохотных девочек – им было двадцать лет. Я видел согбенных, сморщенных старух – им было тридцать. Женщины Лас-Урдеса стали карлицами: они никогда в жизни не видали мяса. Они редко едят хлеб; в их похлебке бобы кажутся лакомством.
В тюрьмах Эстремадуры сидят тысячи женщин, осужденных за кражу: в лесах, принадлежащих графам и маркизам, они посмели взять охапку хвороста или горсть желудей, – когда у людей нет хлеба, они едят желуди.
По главным улицам Мадрида, Севильи, Барселоны гуляют нарядные барышни. Их сопровождают матери, тетушки или прислуга. На лбу челка, взгляд полон нежности: они ищут богатых женихов. Не на Алькала, нет, в рабочем квартале Мадрида, в Куатро Каминос я видал настоящих женщин Испании. Они идут, озабоченные и суровые. Их караулит голод. Они знают тяжесть ломовой работы. Они требуют жизни, как, задыхаясь, можно требовать глотка свежего воздуха. Напротив Гранады, на холме Альбасина, в страшных лачугах женщины стирают белье. В Лорке они подметают звериные норы – там люди живут не в домах, но в пещерах. Черны трущобы Барселоны. Неподалеку от мавританских дворцов, выстроенных разбогатевшими судовладельцами и маклерами, можно найти конуру без света, без воздуха; на полу на куче тряпья женщина рожает. Напротив Севильи, по ту сторону реки, находится Триана. Там никто не поет серенад. Там на площади, среди лохмотьев, солнца и едкой пыли, женщина говорит соседкам:
– Голосуйте за коммунистов!
Теперь народ Испании проснулся. Он не хочет дольше терпеть помещиков и монахов; он хочет жить. Народ отважный и великодушный, создавший прекрасные песни, полный гостеприимства и доброты, способный работать с воодушевлением и умирать, улыбаясь, этот народ не хочет дольше прозябать в пещерах, в трущобах, в лачугах. Любимица этого народа – Долорес Ибаррури{38}. [65]
Народ зовет ее «Pasionaria» – «Неистовая». Она дочь бедного крестьянина и жена шахтера. Она уже не молода, но ее лицо выражает всю суровую красоту Испании. У нее горячие глаза. Она всегда одета в черное. Она хорошо говорит: ее слышно на самой большой площади Мадрида. Это – душа толпы, и толпа кричит: «Да здравствует Пасионария!» Она отвечает: «Я рядовой член партии. Да здравствует наша коммунистическая партия!»
Ее знают в пещерах Лорки и в лачугах Альбасина. Она едет из одного города в другой: она зовет женщин на битву. Она – из Астурии, может быть, ее черное платье – это память о сотнях шахтеров, погибших за советскую республику.
Шесть недель тому назад она сидела в мадридской тюрьме. Она писала там обращение к женщинам: «Вперед, за наших братьев, за наших мужей, за наших сыновей, за нашу женскую судьбу, за труд, за счастье, вперед, женщины Испании!».
Ее выбрали в кортесы; она – представитель города-мученика, разграбленного и расстрелянного, улицы которого помечены рабочей кровью и над которым несколько дней бился на осеннем ветру алый флаг, – Овьедо.
В Овьедо жила молоденькая девушка, дочь маляра Лафуэнте. Ей было шестнадцать лет. Она смеялась с утра до вечера, и, глядя на нее, смеялись все. Она шла с корзиной; она несла домой бобы или картошку; она шла и пела. Она никогда не ходила в церковь: она была комсомолкой. Когда солдаты иностранного легиона подступили к Овьедо, дочь маляра, которую народ прозвал «Libertaria» – «Свободой», попросила одного из бойцов: