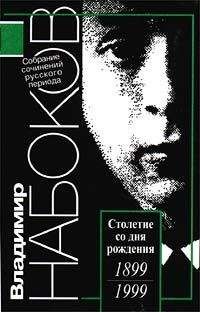Таинственность и душистость фиц-джеральдовских стихов испарились при попытке Тхоржевского претворить их в русские звуки. В переводах из Nicolas тоже есть странные неточности (например, в стихотворении, начинающемся “ты налетел, Господь, на ураган”). Но тут, конечно, труд переводчика менее ответственен: Nicolas не Фиц-Джеральд. Что же касается третьего “источника” — пресловутого Клод Анэ, то, к сожалению, я установить не мог, какую он лепту внес, какой материал он дал нашему автору. Есть, правда, два-три подозрительно “французских” четверостиший (любовных), подозрение такого же рода вызывает во мне четверостишие, начинающееся: “монастыри, мечети, синагоги” — слишком как-то простое и отчетливое перечисление, которое едва ли мог сделать персидский поэт XI века. Оставляю это, однако, на совести проф. Минорского, давшего автору нужные указания.
Если же не обращать внимание на весь этот сумбур “источников”, а просто читать эти робай’и как стихи хорошего русского поэта, то часто поражаешься их изящности, точности определений, приятному их говору. Пускай в них встречаются подчас выражения, слишком уж отдающие нашим ранним символизмом (“голубая даль”, “где-то вдалеке”, “украв вином мелькание страниц”, “дан ненадолго лунный блеск лица” и др.), пускай попадаются изредка такие нехорошие слова, как “ореол”, “невязка”, “план”, “климат”, — все же не можешь не улыбнуться от удовольствия, читая иное четверостишие. Как прелестно, например, вот это: “Все царства мира — за стакан вина! Вся мудрость книг — за остроту вина! Все почести — за блеск и бархат винный! Всю музыку — за бульканье вина!” Полагаю, что добрый Омар Хайям, хоть, может быть, вовсе и не писал этого, был бы все же польщен и обрадован.
1928 АНТОЛОГИЯ ЛУННЫХ ПОЭТОВ
Перевел с лунных наречий С. Ревокатрат. Париж.
(Впервые: “Руль”, 30 мая 1928.)
Лунная литература чрезвычайно богата и разнообразна. В России ее знали плохо. Очень отрадно поэтому, что русскому читателю дано, наконец, несколько образцов поэзии, создаваемой на Луне.
Однако приходится пожалеть, что переводчик выбрал из всей лунной поэзии творенья бледные, отвлеченные и необычайно между собой схожие. В этой антологии представлены такие совершенно второстепенные авторы, как Логог, Никшуп, Арбокед, Кепач, Нинесе и др. Вот, например, из Кепача: “сила не знает, кого сломить, слабость не знает, как сломить, хитрость не знает, зачем сломить”; а вот из Нинесе: “Я искал тебя повсюду, я нашел тебя где-то, я потерял тебя в самом себе”. Все образцы, данные Ревокатратом, — в таком же духе, словно это писало одно и то же лицо. Надобно поставить в вину переводчику, что он совершенно не привел образцов описательной поэзии Луны, лунного фольклора. (Можно ли было не включать такого перла, как, например, стихотворение поэта Нириса, помещенное во всех школьных хрестоматиях Луны и начинающееся так: “Кто при звездах и при земле, так поздно едет на осле…?”). Кроме того, в переводах Ревокатрата есть много неточностей, неправильно переведенных оборотов. Так, например, переводчик пишет: “твердой ногой уцепился за куст”, меж тем как в подлиннике не “ногой”, а “рукой” (“огу” — на северном наречии Луны, что означает буквально “большая мужская рука, держащая „гу”” — род посоха, употребляемый пастухами на склонах потухших вулканов). Далее, отмечаю странный пропуск в переводе из Фелрегала: “Терпи, но не думай, что это терпенье, пламеней, но не думай, что это страсть, верь, но не думай, что это истина, знай, но не думай, что это мысль”. В подлиннике есть еще одна строка: “Пиши, но не думай, что это стихи”.
1928 ДВА СЛАВЯНСКИХ ПОЭТА
НИКОЛАЙ А. БЕСКИД. ПОЭЗИЯ ПОПРАДОВА;
ЯН КАСПРОВИЧ. КНИГА СМИРЕННЫХ. Перевод с польского К. Д. Бальмонта.
(Впервые: “Руль”, 10 октября 1928.)
“Под именем Попрадова”, говорит д-р Бескид в своем обстоятельном и интересном предисловии к стихам карпато-русского поэта Попрадова (1850–1899), “скрывался Юлий Иванович Ставровский, по положению приходский священник в Земплинском Чертиже, Пряшевской епархии”. Книга издана бедно, но с большой любовью, и в самом ее появлении есть что-то глубоко трогательное, как и вообще трогателен этот образ карпатского поэта, пронзительно чувствующего свое родство с Россией и стремящегося в продолжение всей жизни это родство утвердить, выразить, защитить его от вражеских веяний, противных “русскости” его края. И в некотором смысле судьба поэта Попрадова трагична. Язык его края, язык, на котором он писал, является как бы своеобразной излучиной русской речи. Русский слух не может им насладиться, нас смущают странные обороты и ударения, недостаточно резкая тонировка стиха, неожиданные архаизмы, диковинные эпитеты. Но часто, благодаря своему таланту, Попрадову удается достигнуть русской звучности, и чтобы вполне оценить это, надо поставить себя на место карпатского читателя. С такой точки зрения — и в данном случае это самая правильная точка, — иной стих Попрадова и вправду — поэтическое чудо. Почти державинским громом звучат некоторые его строфы: “На небе безмрачном струятся богато лучи светозарны, и весь небосклон распылался алмазом, оделся во злато, блистает красами монарших корон. Вдали раздается и гул водопада, шипенье, пруженье вспенившихся вод, купаются тамо проворны наяды, играя в пучине шальной хоровод. И ель вековечна, и бук закаленный, и клен благородный, и толпы грабин, качая главами, стоят изумленны и внемлют живому плесканью богинь”.
О природе, о любви, но особенно много о своем тяготении к России пишет Попрадов, и через это глубокий смысл и прелесть приобретают такие его строки:
Моя отчизна здесь, в Карпатах,
Среди лесистых синих гор,
Где мой народ в старинных хатах
Живет с неисследимых пор.
Вот здесь родился я и страстно
Влюбился в родину свою,
Ее, хоть бедну и несчастну,
Но в простоте своей прекрасну,
Всегда радушно воспою.
Дай Бог русским поэтам, вышедшим на чужбину, так лелеять, так любить русское слово, как это делал Попрадов в своей маленькой, нищей, зябнущей на западном ветру стране.
О другом славянском поэте, Яне Каспровиче, знаю мало, в подлиннике его не читал, но, судя по некоторым признакам, смутно мелькающим сквозь фантастический перевод Бальмонта, по темам его и настроениям, которых, по-видимому, переводчику не удалось вконец затуманить, приходится заключить, что Каспрович довольно слащавый, очень многословный и чрезвычайно скучный поэт; принявшись читать эту прекрасно изданную книгу стихов, постепенно чувствуешь, что тупеешь; ни одной драгоценной мысли, ни одного запоминающегося образа, — какое-то монотонное, нудное, амфибрахическое спотыкание. Цитирую наудачу: “Боюсь, чтобы сон в миг тот праздный меня не окутал, как груда, и мне не отрезал бы света он тьмою, плывущей оттуда. Хочу с той горы увидать я кровавое рденье заката, как юный на рдяность восхода смотрел с высоты я когда-то. Хочу посмотреть я…” и т. д. до бесконечности, до умственного обморока. Быть может, по-польски все это звучит иначе, быть может, форма подлинника безупречная, и есть в нем особенные пленительные оттенки, искупающие бедность содержания. Не знаю. Переводчик замел следы.
1928 А. РЕМИЗОВ. ЗВЕЗДА НАДЗВЕЗДНАЯ
YMCA. Париж.
(Впервые: “Руль”, 14 ноября 1928.)
В сказке или сказании, как и в шахматной задаче, должно быть то, что называется pointe, иначе говоря, соль, изюминка. Читая сказания Ремизова, поражаешься их безнадежной пресности, т. е. не находишь в них именно того, что одно может оправдать этот литературный жанр. Не оправданием является и то, что Ремизов, дескать, подражает древним апокрифам, сказаниям калик перехожих. В апокрифе, в легенде есть антикварное очарование, таинственные перспективы древнего мышления, пейзажи, облагороженные далью, символы, которые во время оно были полны благоухания и значений. Надобно какое-то особое вдохновенное воображение, необыкновенное мастерство, чтобы сочинить такие же бесхитростные сказки, какие сочинялись в старину.
Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремизова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Когда автор приводит ряд образов (а рядов, перечислений, описей — хоть отбавляй), не чувствует читатель того внутреннего закона, который, глубже ритма и вернее смысла, определяет количество и качество данных образов. “Иуда к речке прибежал — речка ушла; в лес бежит — наклоняется лес” — и читатель одолеваем какой-то мысленной щекоткой и не знает, почему автор ограничился лесом, речкой и рекой, и не прибавил еще чего-нибудь, скажем: “прибежал к горке, — сгладилась гора” и т. д. Или вот, перечисляет Ремизов части, из которых Бог создал человека: “от земли — остов, от моря — кровь, от солнца — красота” и т. д. Можно и прибавить, и отсечь, — впечатление от этого не изменится. А кроме того, автор злоупотребляет астрономией, хотя, правда, не против нее, а против вкуса грешит он, когда в одной сказке говорит о звезде, принесенной Богородицей, в другой утверждает, что солнце — “Божья слеза”, в третьей заставляет Бога взять от того же солнца красоту, чтобы дать ее человеку. Страшно то, что опять-таки ничего бы не изменилось, если бы Богородица принесла “солнце надсолнечное” вместо “звезды надзвездной” и если бы не солнце, а звезда оказалась бы “Божьей слезой”. “Гремит ад громом, бурит бурей” — внакидку вяжет автор, — и читатель автоматически прибавляет “огнит огнем”. Автор играет в кубики. Автор играет в перечисления. Автор играет в очень скучную игру.