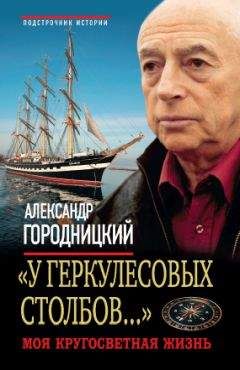А точнее — это агрессивная и наглая пропаганда, с "кремлёвским пиаром" в качестве смыслового ядра, это сумма штампованных студийных посиделок (ток-шоу и "аналитические программы") с заранее известным набором персонажей, это "отработка" мировой киноиндустрии или жалкий доморощенный киноноводел. Ведь до чего же, например, интересно смотреть "Пресс-клуб" (РТР), где в сотый раз какое-нибудь литераторское демократичес-кое мурло типа Драгунского получает возможность ёрничать над понятием "патриотизм". Так и говорит: "Родину любят те, кому любить больше нечего". Подобное они в своих "пресс-клубах" талдычат с вариа-циями уже лет пятнадцать. Судя по интерактиву, люди им так и не поверили. Что ж, с занудным упорством будут продолжать твердить своё, меняя друг друга: Максимов, обрюзгший и заросший, мужеподобную Петровскую, а та — неувядаемую Прошутинскую… Помимо сути, которая изначально пакостна, всё это уже настолько набило оскомину, настолько скучно, что вообще непо-нятно, зачем существует.
По замыслу же пиарщиков Павловского, очевидно, особенно живо и даже с рвением зритель должен воспринимать информации о вояжах и речениях президента. Каждый день многократно повто-ряется: куда полетел Путин, с кем встречался Путин, что сказал Путин. Чтобы у аудитории не сложилось стойкого убеждения, что Путин — это Ельцин сегодня, для масс разыгрываются телеспектакли: "Как поссорился Владимир Владимирович с Борисом Николаевичем" или "Как полковник Путин Раппопорта ругал". Но и раппопорты, и их начальники чубайсы, и "семья" преспокойно продолжают сидеть на богатствах страны и никаким "пиаром" народ убедить в обратном более невозможно. А кроме того — неужели стратеги оболванивания не понимают, что навязчивое мелькание Путина в кадре создаёт эффект пресыщения, делает из "верховного" надоедливую фигуру. Но раз уж сам папаша "демократического" ТВ Попцов говорит о деградации тележурна-листики, значит, дела действительно плохи.
Отстойное вещание (пришедшее на смену "застойному" и перестроечному) пытаются оживить элементы вроде Парфёнова(НТВ). Похо-жий на лягушонка Кермита из "Маппет шоу", он придумал доставать из-под стола разные предметы в виде наглядных пособий к сюжетам. Сами же сюжеты, их подбор — винегрет из все той же, только мелко и искусно нарубленной скушнятины. Правда, есть претензии на лёгкое воль-нодумство: в последнем выпуске "Намедни" был даже сюжет-обрывок о Лимонове (!). Лимонова, впрочем, сразу же пристегнули к фекальному голубо-сальному Сорокину, и в целом получился угоднический материалец о непонятных и странных диссидентствующих писателях (именно так, во множественном числе). Не хотелось бы, чтобы друзья Э.Л. клюнули на "червя", клюнули на преуспевающего при нынешнем режиме Сорокина, нечистым именем которого телемахинаторы хотят измазать настоящее протестное движение писателя-узника Лимонова и объединившейся вокруг него молодежи.
Ну а оханье ТВ по поводу "неожиданного оправдания" команды Поповских, аханье о слишком мягком наказании Быкову или Буданову — привычная русофобия о коей и подавно вести речь скучно. Не говоря уже о "Куклах", вырождающихся на глазах. Что вполне естественно для такого ТВ.
Александр ЕФРЕМОВ
1 июля 2002 0
27(450)
Date: 02-07-2002
Author: Тамара Лисициан
БОРИСЬ ЗА ЖИЗНЬ! (Отрывки из документальной повести “Нас ломала война”)
В фашистской Германии было много лагерей уничтожения людей. Часть этих людей смогла освободить себя, восстать. Освободил сам себя Бухенвальд. В Бухенвальде обреченные на смерть люди смогли восстать. В десятках других лагерей восстаний не произошло, все их узники были планомерно уничтожены. Почему в одном обществе происходят революции, бунты, а в других нет? Что заставляет общество обреченно и покорно ждать полного своего уничтожения? Что убивает людей раньше пули или виселицы, что заставляет человека отказаться от борьбы за жизнь?
Французский мореплаватель Аллен Бомбар один поплыл на простейшей одноместной лодке из Европы в Америку, не взяв с собой никаких благ современной цивилизации. Ни радио, ни телефона, ни запасов еды и воды. Через семьдесят с лишним суток он доплыл до Америки. Журналисты спросили его, зачем он совершил такой трудный поход? Он ответил, что хотел узнать, что убивает моряка, попавшего в кораблекрушение. Бомбар заявил, что понял: не голод и жажда убивают моряка, попавшего в кораблекрушение, а ОТЧАЯНИЕ и СТРАХ.
1942 год. Украина. Город Житомир в ста километрах западнее Киева. Немецкий концентрационный лагерь для военнопленных. Кирпичные красноватые трехэтажные дома-кубы вперемешку с длинными одноэтажными деревянными бараками, почерневшими от сырости, выстроились вдоль асфальтированного шоссе на юго-западной стороне города. На высоких столбах — три ряда колючей проволоки отделяют территорию смерти от остального живого мира. На деревянных вышках часовые с автоматами. Ночью по нескольку раз включают яркий свет на столбах, освещая пустой лагерный плац. Всех пленных после вечерней поверки запирают в домах и бараках на замки до утренней поверки. Вся территория лагеря разделена колючей оградой на отсеки, в них помещаются по три-четыре тысячи человек. Всего пленных шестнадцать тысяч. Почти все солдаты, неузнанные офицеры и медперсонал попали сюда из окружения, в котором оказались наши войска под Киевом.
Подходить к внешней ограде нельзя. Часовые стреляют без предупреждения. Несколько человек поплатились жизнью за то, что от нестерпимого голода пытались вырвать пучок несъеденной травы, все еще густой и зеленой между рядами проволочной ограды и кольцами Бруно. Их тела долго не разрешали убирать в назидание остальным.
Это место называется госпиталь "Кранкенлазарет" по-немецки. Оно отделено от всего остального лагеря. Тут четыре тысячи раненых и больных, двести медперсонала из числа тех же пленных. В каждом блоке — свой главный врач. Но лечить больных нечем. Поэтому тут никого не лечат, только хоронят. Нет не только лекарств, перевязочного материала, но даже постелей, не говоря уже о белье. Завшивленность от этого стопроцентная.
Каждый день умирают по тридцать пять-сорок человек.
Митя, так звали неуклюжего парня, который помогал устанавливать мне кровать, принес котелок баланды и воду. В первые дни есть я не могла, только пила. Баландой называли вываренную картофельную шелуху, слегка подсоленную, без признаков жира или овощей. Это серое варево выдавали два раза в день по котелку на человека и один раз в день к этому добавляли "хлеб" — смесь муки, гороха и опилок, которую нельзя было даже резать ножом — рассыпалась.
Мое бывшее платье представляло из себя разодранные окровавленные лохмотья. Опухшие, в синяках и ссадинах ноги и руки. Мой жуткий после немецких допросов вид вызывал сочувствие у остальных узников.
— Не бойся, не пропадешь, не выдадим… поправляйся скорей, — говорили мне собратья по несчастью. О своем партизанском прошлом я не распространялась, но пленные обо всем догадывались. Меня старались подбодрить, чем-нибудь помочь. Как-то утром мне принесли наволочку, набитую небольшими чистыми белыми тряпками: "Это тебе и подушка, и чистые тряпочки для тех твоих дней".
Потом нашли английскую шинель тонкого сукна горчичного цвета. Пленный портной из Киева, не знаю, где он нашел иголку и нитки, по меркам сшил мне из него теплое платье. Портного я так и не увидела. Он умер, прежде чем я стала выходить во двор. Доктор Биценко умудрился "увести" из-под носа полицая пару солдатских обмоток, из которых тот же портной сшил мне толстые чулки. Ноги у меня были такие худые, что чулки оказались мне впору. Из страшной груды одежды, оставшейся от мертвых, мне нашли зимнюю ушанку.
Однажды Толе на кухне передали две настоящие картофелины, найденные в шелухе, привезенной для баланды. Их сварили и передали для "Этери". Так меня называли в "Кранкенлазарете". Незнакомые голодные люди вместо того, чтобы съесть чудом обнаруженную картофелину или морковку, посылали ее для "Этери". Только тот, кто испытал смертельный голод, близость смерти, может оценить всю щедрость и силу воли этих людей. Дело даже не во мне и не в картофелине. Я напомнила им их прошлую жизнь, жен, семью и детей. Мысленно прощаясь с ними, они в безнадежном отчаянии хотели спасти во мне свою память о них. Может, даже не осознавая этого. Меня переполняли удивление и благодарность.
Потом Толя достал в бараке "уже не нужные" сапоги. Какое страшное словосочетание в этом месте — "уже не нужные"! Среди выздоравливающих нашелся сапожник, тот распорол сапоги и сшил их заново по моей мерке. Чем он шил, так и осталось для меня загадкой.