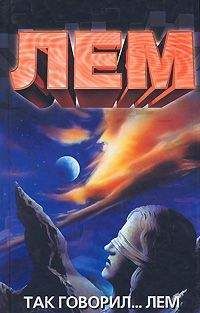— Это правда, но будьте реалистом, а не мечтателем. Мы живем не на Луне. Все разбивается о деньги. Вы знаете, например, какой огромный прогресс достигнут в последнее время в кардиохирургии? Чтобы сделать by-pass,[212] уже не надо разрезать грудную клетку, а только ввести между ребрами щипцы, которыми управляют роботы, при этом хирург у джойстика контролирует ход операции на экране. Через пару дней больной выходит из больницы. Это, разумеется, чрезвычайно дорогая технология, поэтому должно произойти чудо, чтобы она стала общедоступной.
— Значит, вы соглашаетесь с такой элитарностью в медицине?
— Из того факта, что в мире есть люди, которые едят других людей, не следует, что я принимаю каннибализм.
— Это не аналогичная ситуация. У нас есть доступ к лекарствам, врачам и медицинской аппаратуре, но у большинства в мире нет ничего. Для интеллектуала не должно быть безразлично, гарантировано ли право на охрану здоровья каждому или только избранным личностям.
— Протестами коммунизм в медицине мы не создадим. В 1987–1988 годах я имел непосредственные контакты со шведским учреждением, которое занималось долговременными исследованиями в области эпидемиологических прогнозов, касающихся вируса иммунодефицита человека. Поскольку уже тогда я об этом многое знал, так как знакомился со специальной литературой и в Вене разговаривал с известным вирусологом Манфредом Эйгеном, я знал, что не существует никакого радикального способа воздействия на этот вирус, поскольку его мутационная изменчивость столь велика, что в момент введения вакцины в организм больного возбудитель болезни уже успевал преобразиться и, следовательно, прививка была безуспешна. У этого вируса сто лиц. Единственное, что можно сделать, — это давать больным комбинации лекарств в большом количестве. Естественно, можно пытаться уменьшить их цену, но ведь нельзя раздавать их даром. Ну и скажите, откуда взять на это деньги?
— Когда двадцать лет назад мы рассуждали о будущем мира, еще не было СПИДа, зато в прессе можно было легко найти заверения известных врачей, что эпоха больших эпидемий раз и навсегда закончилась. Оказывается, выдающиеся эксперты в очередной раз нас дурачили.
— Слышать от знаменитых экспертов ерунду можно очень часто. Когда-то я спросил у лауреата Нобелевской премии Эйгена: «Господин профессор, считали ли вы год назад, что возможно появление ВИЧ?» Он честно ответил: «Нет». Сейчас он считает, что в науке никогда нельзя говорить «никогда». Поэтому нельзя также говорить, что никогда машина тяжелее воздуха не поднимется в воздух, а мы никогда не победим рак.
— Значит, вы верите, что найдут лекарство от рака?
— Проблема состоит в том, что существует много сотен разных видов рака, поэтому победа, например, над лейкемией вовсе не будет означать, что мы не заболеем, например, меланомой. Это отклонения от нормального хода определенных процессов организма, в которых принимает участие около десяти миллиардов клеток. Каждая из них может сойти с пути нормального обмена.
— Все чаще мы слышим, что убийственным для человечества может оказаться вирус гриппа. Он ведь тоже легко мутирует, правда?
— Свойства вируса гриппа похожи на ВИЧ, но, к счастью, у него значительно более медленные темпы мутации.
— Пока что нас каждый год прививают от гриппа и одним это помогает, а другим — нет. Но еще нет прививки, вырабатывающей иммунитет раз и навсегда, как против кори, оспы или скарлатины.
— Прививки против гриппа на всю жизнь не существует, потому что каждый год появляются новые мутации. И они все более вредные, настолько гениально приспособившиеся к сохранению, что человек — берегись. Вирусы — это производное от бактерий, которые имеют за собой по меньшей мере четыре с половиной миллиарда лет жизни на Земле. Даже если мы справимся с какой-то эпидемией, то появится что-нибудь новое.
— Я читал мнение врачей, что вирусы полностью приобретают иммунитет к лекарствам.
— Это были не врачи, а паникеры. Вирусы не столько вырабатывают иммунитет, сколько подвергаются мутации. Сначала они, потом другие живые организмы. Таким образом, дойдет до приматов. Я надеюсь, вы знаете, кем является мутировавшая обезьяна? Человеком.
— Ну да, собственно говоря, эта никакая не сенсация, но просто мы не думаем об этом постоянно.
— Разумеется, это не меняет основную проблему: болезни становятся все более избирательными, а лечение все дороже. И на это мы повлиять не можем.
— Поэтому Иен Кеннеди стопроцентно прав: в медицине мы уже находимся в ситуации открытого конфликта между благом личности и благом общества. Если мы не можем лечить всех, используя дорогую аппаратуру, то должны делать выбор, кого будем спасать, а кого нет. Это разновидность отбора.
— И каковы, по его мнению, критерии этого отбора?
— Он этого не пишет прямо, но легко можно догадаться — деньги. Из того, что вы говорите, следует, к сожалению, то же самое.
— (Со вздохом.) Да, так оно и будет.
— Но это наверняка не самое удачное этическое правило…
— Неизвестно, хорошее оно или плохое, но будет именно так.
— Значит, поговорим еще минуту о тех счастливцах, которые будут иметь доступ к современнейшим медицинским технологиям. Эксперты утверждают, что в течение ближайших двадцати-тридцати лет мы уже будем иметь дело с искусственными почками, печенью и легкими.
— Искусственные почки уже есть!
— Знаю, но я говорю не о приковывании больного к машине в клинике и не о большом рюкзаке-аппарате, с которым его соединяют какие-то кабели и трубки.
— И потому самым дешевым способом создания искусственных органов является клонирование их из частиц человеческого генотипа при помощи соответствующего утератора. Разумеется, они должны быть совместимы с тканями данного организма. Это возможно, но, по-моему, это будет достигнуто только во второй половине этого тысячелетия.
— Если бы вы сказали «во второй половине этого столетия», это звучало бы более правдоподобно.
— О нет, это не наступит так быстро! Если же речь идет о человеческом мозге, то к этому я вообще относился бы скептически.
— О мозге я также не думаю. Однако я был бы большим оптимистом, если речь идет об искусственных органах. Первая трансплантация сердца, выполненная профессором Барнардом, произошла почти тридцать лет назад.
— Ну, теперь она делается фактически как трансплантация ногтя. Но искусственное сердце — это уже значительно большая проблема, ибо для этого надо изготовить искусственные саркомеры, а мы еще даже не овладели технологией создания сокращающихся волокон. И только тогда они будут напоминать сердечную мышцу, которая является так называемой связкой, а не обыкновенной полосатой мышцей. Это род сплетения, в котором часть волокон работает, а часть является только резервом, который активизируется в минуты усиленной активности. Тем временем в кардиохирургии все еще используются электрические насосы с эластичной мембраной. Не желаю этого никому!
Разумеется, уже есть первые экземпляры искусственного сердца, о чем широко писали в газетах, но это очень неприятная история, потому что нам в нутро вкладывают довольно сложный механизм. Говорили также о трансплантации сердца свиньи, но сначала надо вырастить свинью, которая была бы генетически совместима с человеческим организмом. К сожалению, никто еще такую свинью не видел. Пока что дело заканчивается как обычно: сосисками и колбасой.
Мы действительно находимся на пороге новой эры, но наблюдаем очень ранний этап ее. Вы видели первый велосипед? Он состоял из двух деревянных колес, а велосипедист отталкивался ногами. А как выглядит современный горный велосипед? Титановая игрушка, которой не хватает только душа. А самолет Фармана-Блерио? Абсолютный примитив, а теперь уже проектируется новый гиперреактивный самолет на четыреста восемьдесят персон.
— Я вынужден сказать, что, пожалуй, вы немного грешите, сравнивая средства современной медицины с первыми велосипедами и аэропланами. Я считаю, что без ее помощи мы сегодня не могли бы разговаривать.
— Разумеется, мы должны признать, что в медицине произошел огромный прогресс. Еще в 1860 году, о чем мне рассказывал отец, хирург шел в операционный зал с длинной бородой, полной бактерий, и манипулировал в животе пациента немытыми руками. Вопросы стерильности насчитывают не более ста лет.
— Из моих бесед с учеными следует, что человек в принципе не может жить дольше, чем 120 лет. Почему всего лишь столько?
— Это не является некой абсолютно непреодолимой границей. В раннем голоцене средняя продолжительность жизни для нашего вида составляла двадцать пять лет. В настоящее время она составляет по меньшей мере в три раза больше. Но есть ли смысл продлевать ее еще больше? Зачем? Разумеется, прогресс медицины отодвигает эту границу, но мы созданы из материала, который не вечен. Мы должны, в конце концов, умирать.