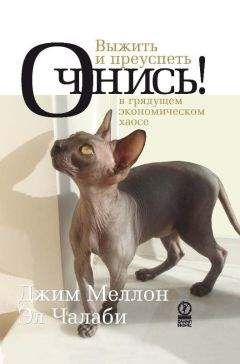Книгу известного дагестанского критика, прозаика и поэта к столетию со дня рождения издал его сын - культуролог, доктор филологических наук Казбек Султанов. "Давно носился с мыслью написать об отце. Но не в популярном жанре родственной мемуаристики, предписывающей возвышать или даже приукрашивать образ близкого человека. Мне хотелось не столько вспоминать человека под диктовку понятных родственных чувств, сколько воссоздать то, что называют духовным обликом человека".
В книге несколько разделов: "Воспоминания о Камиле Султанове и отклики на его творчество", "Избранные критико-литературоведческие работы Камиля Султанова", "Из архива Камиля Султанова: неизданное". Как критик Камиль Султанов размышляет о таких писателях, как Гамзат Цадаса, Эффенди Капиев, Кязим Мячиев, Расул Гамзатов, Адам Шогенцуков, Яков Козловский. Это не столько литературоведческие исследования, сколько живые, убедительные эссе, которые читаются легко и с большим интересом. Вспоминают о Камиле Султанове Расул Гамзатов, Сергей Наровчатов, Лев Озеров, Чингиз Гусейнов, Магомед Гамидов, Зоя Рашидова и другие.
Евгений Степанов.
Диалоги о поэзии (книга интервью с известными российскими поэтами). - М.: Вест-Консалтинг, 2012. - 288 с. - 300 экз.
В книгу писателя и культур[?]трегера Евгения Степанова вошли его беседы с российскими поэтами, которые он публиковал в разных изданиях с конца 80-х годов. Среди его собеседников - Владимир Алейников, Юрий Беликов, Александр Иванов, Константин Кедров, Кирилл Ковальджи, Андрей Коровин, Игорь Панин, Олжас Сулейменов, Олег Хлебников и другие. Отрадно, что в книге немало авторов "ЛГ". В чём суть поэзии? В чём отличие графомана от настоящего поэта? Когда закончится противостояние традиционалистов и авангардистов? Что будет с нашей поэзией в будущем? Ответы на эти и другие вопросы читатель обнаружит в сборнике, который станет увлекательным чтением не только для специалистов, но и всех, кто интересуется отечественной словесностью.
Наталья Кодрянская.
Сказки. Глобусный человечек. Золотой дар. - М.: Русский мир, 2012. - 367 с. - 2000 экз .
В книге впервые собраны вместе все сказочные произведения эмигрантки первой волны Натальи Кодрянской, прежде публиковавшиеся только во Франции. Эту русскую писательницу необычайно высоко ценил Алексей Ремизов, сказавший о ней: "Душа Кодрянской овеяна сказкой[?] Мир Кодрянской безгрешен". И правда: в этих сказках нет грани между вымыслом и реальностью, у Кодрянской всё - сказка и всё - одушевлённо. Деревья и насекомые, ангелы и паломники - они все одинаково беззащитны и страждут обрести свою правду. Нестеснённость фантазии соединяется в сказках Кодрянской с искренним пафосом и нескрываемым морализаторством. Это сказки не столько весёлые и бойкие, сколько лиричные, трогательные, порой меланхоличные, но и тогда - простодушные и светлые. Главное наказание, какое может постигнуть героев Кодрянской, - слепота, а первое свидетельство преодоления собственного несовершенства - прозрение.
Прославление Болота
ОБЪЕКТИВ
Владимир Костин.
Колокол и Болото. - М.: Беловодье, 2012. - 288 с. - 1000 экз.
На обсуждении романа Владимира Костина я слышал определения: "фантастический роман", "исторический", "бытовой", "сатирический". По частям - верно, но не ухвачен пафос романа, связь сюжета и стиля. Сопрягать эпохи и расслаивать времена, строить сюжет на диссонансах, укрупнять будто бы малое и умалять мнимо крупное - так мне видится замысел. И так понятен горестный возглас приезжих: "И это университетский город!" Теперь каждый областной центр - университетский город, и что же? Два эпиграфа настраивают на двойственное отношение к истории. Из Державина: "Науки, музы, боги - пьяны, Все скачут, пляшут и поют". Из Полонского: "В одной знакомой улице - Я помню старый дом[?]"
Начало романа "Колокол и Болото" - в идиллическом тоне, но поверивший в предание о славном городе Потомске оказывается на Болоте, хотя "пышный центр города на расстоянии одной выкуренной сигареты". Два лика у Болота: "Место сырое, комариное, речка нечиста и поддаёт миазмами"; "Но и сделался Потомск чист и по-своему меланхолично-зачарован... рядом с исконной стихией мата образовалась гармония отличной русской речи". И время здесь, оказывается, не линейное, как везде, а циклическое - поколения идут по кругу. Автору понадобилось историческое введение - четыре века сибирского города. Слой за слоем отслаиваются пласты обыденности, и за планктонной мутью "хулиганки" проступает легендарное, чудесное.
"Любите своё Болото! Грязное и пьяное, убогое и скучное. Неимущее и никому, кроме вас, не нужное" - вот какой завет оставил таинственный Старец, явившийся вдруг на Болоте. Явился он, как наваждение, как временное просветление забубённых "бакланов", оказалось - для подведения итогов. Город Потомск суетно вспенился по поводу круглой даты - 400-летия. Перед этим вернулся из небытия колокол Благовест, и одно за другим пошли чудеса, но в памяти их удержали всего одиннадцать "потомцев". Владыка Парфений, нарисованный нейтрально, резюмирует в финале: "И никому, и, может быть, никогда нельзя рассказать об этом". А почему нельзя? "Мы не готовы к чуду".
Один из парадоксов романа, может быть, лейтмотив его: привязывайтесь сердцем к тому, что осталось, ибо "нет пока другого места для души". Ну как тут не вспомнить Василия Розанова: "Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем попахивает, а как-то мило всё[?] Ко всему принюхались". И есть зловещий парадокс - Синяя птица, тоже с обратным знаком: самолёт, уносящий "руководствующую" шваль, на которую не действует чудо-озарение. Итак, преобладает ирония, но есть и элегия, грусть по уходящей подлинности.
Что даёт такое название города - Потомск? Напоминает сибирякам: мы не Иваны непомнящие, мы - чьи-то забывчивые потомки. Исторический экскурс, увлекательный, но не весёлый, оказался в романе фоном для разговора о современности. Какова она, нынешняя сибирская Россия, понять можно лишь на фоне прошлого. Экспозиция - это вторая глава "Нечто о городе Потомске" - представила разноязычие эпох: от первых воевод-мздоимцев до века XX - многое повторяется. Глава закончена обескураживающим выводом: "Так, безумным обнулением всего накопленного, наработанного и выстраданного закончился в Потомске XIX век". А что же сказать об исходе XX? Есть прогноз Старца: "И через страшные страдания пройдут нынешние люди, чтобы либо очиститься, либо погибнуть[?] сомкнутся без зазора дни предыдущие и дни последующие".
Настоящие действия начинаются ближе к середине. Но что считать главным событием романа? Наверно, возвращение колокола. Его сопровождает явление светлого Старца из легендарных запасников памяти и превращение губернатора в осетра. Прозрачная аллюзия, щедринский сарказм. Основной же свет - от любви Алёши и Ванды. Вот основной сюжетный контраст - настоящая чистая любовь в закоулках Болота. Любовь побеждает летаргию памяти. Но тревожна надежда автора. Как и в романе Булгакова, в финале всё как будто возвращается на круги беспамятства. И всё-таки есть несколько "потомцев", которым дано помнить.
Колокол над Болотом - ёмкая метафора. На язык просится: интеллектуальная проза. Хотя это не жанр, а, скорее, стиль жизни писателя. Не имитационная интеллектуальность - эта сейчас не редкость, а горькая. Тут в свои права вступает ирония истории, а современность подталкивает писателя к сарказму. В Сибири ирония - птица редкая, залётная. Ни в таёжной полосе, ни в степной орде философская ирония не ночевала. Да и врачует дух не она ведь, а любовь, ирония лишь место для неё расчищает. Приелась беспрерывная игра на понижение. Просветляющих легенд - вот чего не видно. На этом фоне и высветляется лирическая ирония Костина. Мнимо интеллектуальной прозы вдосталь, но мало сейчас литературы, лелеющей пластику, органику жизни, дорожащей опытом поколений. Больше всё антироманы, антиэпос какой-то. Мы ждём: вот-вот окрепнет голос провинции, и отсюда пойдёт новая русская проза. Оригинальность романа, самобытность его я понимаю, может быть, простовато: автор не поступился глубиной ради внешней занимательности.
Но ирония - не самоцель, она лишь подталкивает к раздумью о главном: о семье, о любви и о вере. Ведь сама семья, основа жизнестойкой культуры, размыта, раздавлена в ХХ веке. Эпоха демонстративно игровой прозы довершает это разложение. А мыслим ли русский роман без семьи? Совместить иронию истории и "мысль семейную" - нелёгкая это задача. И вообще - напомнить о самых традиционных ценностях, среди коих - быт провинции, хранительницы национального уклада. Кажется, на исходе эпоха постмодерна, балаганно-шутовское отношение к истории всем уже надоело. Опять интересны авторы, обращённые к преданию, к родовой легенде, вообще к проблеме рода и семьи в России.