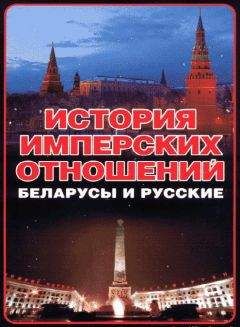Ознакомительная версия.
Прибежали другие люди, они тоже обнимали меня. И все признавались, что догадывались, кого прячут на хуторе.
Потом приехала за мной мама… Она вошла во двор и стала перед этой женщиной и ее детьми на колени…
«В отряд меня несли на руках… Все во мне было отбито от пяток до макушки…»
Володя Ампилогов – 10 лет.
Сейчас – слесарь.
Десять лет мне, ровненько десять лет… И война… Эта сволочь – война…
Играли мы во дворе с мальчишками в «палочки-стукалочки». Въехала большая машина, из нее выскочили немецкие солдаты, стали нас ловить и бросать в кузов под брезент. Привезли на вокзал, машина задом подошла к вагону, и нас, как мешки, побросали туда. На солому.
Вагон набили так, что первое время мы могли только стоять. Взрослых не было, одни дети и подростки. Два дня и две ночи нас везли с закрытыми дверьми, ничего не видели, слышали только, как колеса стучат по рельсам. Днем еще как-то свет пробивался через щели, а ночью становилось так страшно, что все плакали: нас куда-то далеко везут, а наши родители не знают, где мы. На третий день открылась дверь, и солдат бросил в вагон несколько буханок хлеба. Кто был ближе, успел схватить, и в одну секунду этот хлеб проглотили. Я был в противоположной стороне от двери и хлеба не видел, только мне показалось, что на минуту почувствовал его запах, когда услышал крик: «Хлеб!» Один его запах.
Уже не помню, какие это шли сутки в дороге… Но дышать уже не было чем, потому что мы в этом вагоне и в туалет ходили. И по большой, и по маленькой нужде… Состав начали бомбить… В моем вагоне сорвало крышу. Я был не один, а с дружком Гришкой, ему, как и мне, десять лет, до войны мы учились в одном классе. С первых минут, как нас стали бомбить, мы держались друг за дружку, чтобы не потеряться. Когда сорвало крышу, решили вылезть из вагона через верх и бежать. Бежать! Нам уже было ясно – везут на запад. В Германию…
В лесу было темно, и мы оглядывались – горел наш состав, он горел одним костром. Высоким пламенем. Всю ночь шли, под утро прибились к какой-то деревне, но деревни не было, вместо домов… Это первый раз я видел… Стояли одни черные печи. Черные памятники. Стелился туман… Мы шли, как по кладбищу… Мы искали что-нибудь поесть, печи стояли пустые и холодные. Пошли дальше. К вечеру опять наткнулись на потухшее пожарище и пустые печи… Шли и шли… Гриша вдруг упал и умер, у него остановилось сердце. Всю ночь я просидел над ним, ждал утра. Утром вырыл руками ямочку в песке и похоронил Гришу. Хотел запомнить это место, но как ты запомнишь, если все кругом незнакомое.
Иду, и от голода кружится голова. Вдруг слышу: «Стой! Мальчик, куда идешь?» Я спросил: «Кто вы такие?» Они говорят: «Мы – свои. Партизаны». От них я узнал, что нахожусь в Витебской области, попал в Алексеевскую партизанскую бригаду…
Когда окреп немного, стал проситься воевать. Надо мной в ответ подшучивали и отправляли подсобить на кухне. Но случилось такое… Такой случай… Три раза отправляли к станции разведчиков, и они не возвращались. После третьего раза командир отряда построил всех и сказал:
– В четвертый раз посылать сам не могу. Пойдут добровольцы…
Я стоял во второй шеренге, услышал:
– Кто – добровольцы? – Тяну, как в школе, руку вверх. А фуфайка у меня была длинная, рукава болтались по земле. Поднимаю руку, а ее не видно, рукава висят, я из них вылезти не могу.
Командир командует:
– Добровольцы, шаг вперед.
Сделал я шаг вперед.
– Сынок… – сказал мне командир. – Сынок…
Дали мне торбочку, старую ушанку, одно ухо у нее было оторвано.
Как только вышел на большую дорогу… Появилось ощущение, что за мной следят. Оглядываюсь – никого нет. Тут я обратил внимание на три густых кудрявых сосны. Осторожно присмотрелся и заметил, что там сидят немецкие снайперы. Любого, кто выходил из леса, они «снимали». От снайпера не уйдешь, ну, а появился на опушке мальчик, да еще с торбочкой, трогать не стали.
Вернулся я в отряд и доложил командиру, что в соснах сидят немецкие снайперы. Ночью мы их взяли без единого выстрела и живьем привели в отряд. Это была моя первая разведка…
В конце сорок третьего… В деревне Старые Челнышки Бешенковичского района меня эсэсовцы словили… Били шомполами. Били ногами в кованых сапогах. Сапоги каменные… После пыток вытащили на улицу и облили водой. Это было зимой, я покрылся ледяной кровавой коркой. До меня не доходило, что за стук я слышу над собой. Сооружали виселицу. Я увидел ее, когда меня подняли и поставили на колодку. Последнее, что запомнил? Запах свежего дерева… Живой запах…
Петля затянулась, но ее успели сорвать… В засаде сидели партизаны. Когда ко мне вернулось сознание, я узнал нашего врача. «Еще две секунды – и все, я бы тебя не спас, – сказал он. – А так ты счастливый, сынок, потому что живой».
В отряд меня несли на руках, все во мне было отбито от пяток до макушки. Было так больно, что я думал: буду ли я расти?
«А почему я такой маленький?..»
Саша Стрельцов – 4 года.
Сейчас – летчик.
Отец меня даже не видел…
Я родился без него. У него было две войны: вернулся с финской, началась Отечественная. Второй раз ушел из дома.
От мамы в памяти осталось, как идем мы по лесу, и она меня учит: «Ты не спеши… Ты послушай, как падают листья. Как лес шумит…» И мы сидим с ней на дороге, и она рисует мне птичек на песке прутиком.
Еще помню, что хотел быть высоким и спрашивал у мамы:
– Папа высокий?
Мама отвечала:
– Очень высокий и красивый. Но никогда этим не щеголяет.
– А почему я такой маленький?
Я еще только рос… У нас не осталось ни одной отцовской фотографии, а мне нужно было подтверждение, что я на него похож.
– Похож. Очень похож, – успокаивала мама.
В сорок пятом… Мы узнали, что отец погиб. Мама его так любила, что сошла с ума… Она никого не узнавала, даже меня. И сколько я потом себя помню, то всегда со мной была только бабушка. Бабушку звали Шура, чтобы нас не путали, мы с ней договорились: я – Шурик, она – баба Саша.
Сказок бабушка Саша не рассказывала, с утра до поздней ночи она стирала, пахала, варила, белила. Пасла корову. А в праздники любила вспоминать, как я родился. И вот рассказываю вам, а у меня в ушах бабушкин голос: «Был теплый день. У деда Игната отелилась корова, а к старому Якимщуку залезли в сад. И ты появился на свет…»
Над хатой все время пролетали самолеты… Наши самолеты. Во втором классе я твердо решил стать летчиком.
Бабушка пошла в военкомат. У нее попросили мои документы, документов моих у нее не было, но она взяла с собой похоронку на отца. Домой вернулась со словами: «Выкопаем картошку, и поедешь в Минск в суворовское училище».
Перед дорогой она одолжила у кого-то муки и напекла пирожков. Военком посадил меня на машину и сказал: «Это тебе почет за твоего отца».
Я ехал на машине первый раз в жизни.
Через несколько месяцев приехала в училище бабушка и привезла мне гостинец – яблоко. Просила: «Ешь».
А я не хотел сразу расстаться с ее подарком…
«Их тянуло на человеческий запах…»
Надя Савицкая – 12 лет.
Сейчас – рабочая.
Ждали из армии брата… Он написал письмо, что приедет в июне…
Думали: брат вернется и будем строить ему дом. Отец уже возил на конях бревна, вечером мы все сидели на этих бревнах, и я помню, как мама говорила отцу, что дом поставят большой. У них будет много внуков.
Началась война, брат, конечно, не пришел из армии. У нас так – пять сестер и один брат, и этот брат был самый старший из детей. Всю войну мама плакала, и всю войну мы ждали брата. Я так помню, что ждали его каждый день.
Услышим, что куда-то пригнали наших военнопленных, – скорее туда. Испечет мама десять бульбин, в узелок – и пошли. Один раз взять с собой было нечего, а в поле стояло спелое жито. Мы наломали колосьев, натерли в руках зерна. И попали на немцев, на патруль, который сторожил поля. Высыпали они наше зерно и показывают: становитесь, расстреливать будем. Мы в плач, а мама им сапоги целует. Они на конях сидят, высоко, она хватает их за ноги, целует и просит: «Паночки! Пожалейте… Паночки, это все мои дети. Вы видите, одни девочки». Не стали они нас стрелять и поехали.
Как они поехали, я стала смеяться. Смеюсь и смеюсь, десять минут прошло, а я смеюсь. Двадцать минут… Падаю от смеха. Мама меня ругает – не помогло, мама меня просит – не помогло. Сколько мы шли, столько я смеялась. Пришла домой – смеюсь. В подушки зароюсь, успокоиться не могу – смеюсь. И весь день я так смеялась. Думали, что я… Ну, понимаете… У всех страх… Боялись, что я умом тронулась. Сбожеволила.
У меня до сих пор осталось: если испугаюсь, начинаю громко смеяться. Громко-громко.
Сорок четвертый год… Освободили нас, и тогда мы получили письмо, что брат погиб. Мама плакала, плакала и ослепла. Жили мы за деревней в немецких блиндажах, потому что деревня вся сгорела, сгорела наша старая хата и бревна для нового дома. Ничего у нас не уцелело, нашли в лесу солдатские каски и в них варили. Немецкие каски были большие, как чугуны. Кормились мы в лесу. За ягодами и грибами ходить было страшно. Пооставалось много немецких овчарок, они бросались на людей, загрызали детей маленьких. Они же были приучены к человеческому мясу, к человеческой крови. К ее свежему запаху… Если мы шли в лес, то собирались большими группами. Человек двадцать… Матери нас учили, что надо ходить по лесу и кричать, тогда собаки пугаются. Пока корзину ягод насобираешь, так накричишься, что голос потеряешь. Охрипнешь. У нас раздувалось горло. А собаки большие, как волки.
Ознакомительная версия.