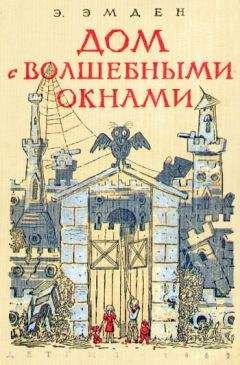– Ну, вот… и вы будете жить попросторнее, а Сварнику скажете, что это я вам разрешил.
Толстячок подкатился ко мне:
– Прошу, пан, а как вас называть?
– Так и называйте: пан офицер. Русский офицер! – понятно?
– Да, да, понятно. Мне очень понятно.
У Венерчуков был телефон, я позвонил Надежде, хотел позвать в наше новое жилье, но ее отвезли в родильный дом.
На следующий день я стал отцом, у нас родилась девочка, которую мы назвали Светланой. Я уже предвкушал минуту, когда приду за Надеждой и приведу ее вместе с дочкой на новую квартиру, которую я успел вычистить, вымыть и перенести в нее весь наш нехитрый скарб. Но как раз в это время на меня свалилось горе, которое придавило точно камнем. В больнице перед тем, как выписать Надежду, меня пригласил врач, маленький человек с бородкой, и на ломаном русско-украинском языке сказал, что моя дочь больная и на всю жизнь останется глубоким инвалидом. Отворачивая взгляд в сторону, намекнул, что подобных детей не обязательно брать, их можно оставить и в больнице.
Слушал я его как в тумане, как в глубоком горячечном бреду. И когда до меня дошел смысл его последнего предложения, поднялся и не своим голосом прокричал:
– Давайте мою дочь! Сейчас же!…
Ребенка завернули, и я бережно взял дочурку на руки. Надежда, ее мама и старшая сестра Рая шли позади и оживленно разговаривали и смеялись, – я понял, они не знают о болезни ребенка. Их смех мне казался ужасным святотатством, но я им не мешал, сердце мое учащенно билось, в голове электрической искрой металась мысль: инвалид, инвалид, инвалид!…
Вошел в подъезд, а за спиной раздался крик Раисы Николаевны:
– Иван! Куда ты? Ты, верно, рехнулся от радости. Наш подъезд вон там, за углом.
Я повернулся к ним, спокойно проговорил:
– Пойдемте. Я же вам говорил, что нашел новую квартиру.
– Но ты не сказал, что нашел ее в нашем доме, рядом с нами. Это очень хорошо, я рада…
Пришли в комнату, и я, бережно укладывая дочку на диване, не заметил, как обрадовалась Надежда и ее мать, очутившись в такой прекрасной комнате, я даже не слышал, что они говорили. Глухо сказал:
– Разверните девочку. Посмотрим…
– Ага, я сейчас. Мне уже пора кормить.
И развернула ребенка, стала кормить. А я смотрел на свою дочь и не мог понять, что же в ней увечного, почему она инвалид. Да и как можно было что-нибудь понять, если это было всего лишь розовое, морщинистое существо, крутило головкой, кричало, – и как-то пронзительно, надрывно.
А женщины все были веселые, радостно болтали, смеялись.
– Девочка-то здоровая? – спросил я как-то глухо и тревожно.
– Здоровая, здоровая! – закивала головой теща, Анна Яковлевна.
– Вы посмотрите хорошенько, – продолжал я некстати и неуместно – так, что встревожил Надежду и она стала неотрывно смотреть на девочку. Подошла к ней и теща, потрепала за щечки, тронула ухо.
– Здоровая, – ишь, какая крикунья и резвушка. Вся в отца пошла. Глазки-то, глазки – синие, как васильки!…
– Вы должны знать, – продолжал я бухтеть, но, впрочем, заметно успокаиваясь. – Вы семерых воспитали, должны знать…
Теща засветила надежду: врач-то и ошибиться мог! И просто гадость захотел сказать. Вспомнил чьи-то разговоры о врачах-бендеровцах, о том, что, принимая младенцев при родах, они как-то ловко, движением большого пальца делают подвывихи в суставах и причиняют другие увечья. «Если так, – клокотала в голове ненависть, – застрелю этого козла!» – вспоминал я врача с бородкой.
– Ты что невеселый? – повернулась ко мне Рая. – Сына небось ждал, а родилась дочь. Подожди вот, привыкнешь к ней и так будешь рад…
– Да, да, – я рад, но только мне показалось… очень уж она маленькая.
– Как маленькая! – воскликнула Рая. – Три с половиной килограмма весит, а он – маленькая.
Я сходил на кухню, принес тарелки, вилки, и мы стали накрывать стол.
Я тогда ничего не сказал Надежде, но скоро мы убедились, что дочь наша здоровая, веселая и быстро развивается. Я потом ходил в родильный дом, обо всем рассказал главному врачу, и он мне не возражал и даже подтвердил, что в наследие от бендеровцев им действительно остались врачи-изверги, но тот с бородкой уж больше вредить не будет, его арестовали, был суд, и там выяснилось, что он продавал младенцев каким-то западным торговцам детьми. Врача этого будто бы расстреляли.
Тут будет уместно сказать, что дочь моя Светлана была абсолютно здоровой девочкой, в девять месяцев стала ходить, а в пятнадцать лет стала настоящей невестой. Она мне подарила трех внуков, правнука и правнучку; преподает в школе русский язык и литературу и пользуется всеобщей любовью своих учеников.
Но вернусь к тому времени. Судьба устроила мне целую серию испытаний: только оправился от удара, нанесенного мне извергом-врачом, стал привыкать к новой удобной и вполне счастливой жизни, как новое несчастье снежной лавиной свалилось мне на голову: во Львов приехал полковник Сварник. И утром мне позвонил Арустамян, голосом веселым, даже будто бы смешливым, но, впрочем, взволнованным, говорит:
– Это ты, капитан?… Я с тобой говорю? Что-то не узнаю голос. А?… С тобой?… Я слышал, у тебя маленький девочка родился? У нас на Кавказе говорят: если родился мальчик, это к богатству, а если девочка – тоже неплохо, но и не так хорошо, чтобы звать друзей и пить вино.
– Я доволен, товарищ полковник. Дочь у меня хорошая.
– А я что говорю? Я тоже сказал: молодец. У тебя и дочь родился, и квартира есть. Говорят, квартиру сам взял, как на войне сопку берут или рубеж. И брал ее ночью, а? Чтобы никто не видел. Ну, квартира – особый вопрос. Ты заходи сейчас. Тут из Москвы полковник приехал, он хочет видеть тебя.
Я положил трубку и услышал жар во всем теле. В висках стучало точно молотками, щеки горели. Я понял: Арустамян ликует, я попался ему на зуб.
Напротив меня сидел и что-то писал Саша Семенов, рядом с ним стоял Мякушко.
Саша испуганно проговорил:
– Арустамян – да?
– Да, вызывает.
И вышел из комнаты.
На второй этаж и затем по коридору шел я медленно, старался успокоиться. Думал о том, что, кажется, в жизни не было у меня такой тяжелой ситуации. Не сомневался, что приехавший полковник – конечно же Сварник, и уже верил, что он и действительно состоит главным помощником при Министре. Представлял, как он вытряхнет нас из квартиры и как попадет за нас командиру дивизии, и особенно генералу Никифорову. Тут же решил: не выдавать генерала, а все взять на себя, и Сашу Семенова, и Мякушко не впутывать. Скажу: сам все решил и сам все проделал. Этак-то легче, и на душе будет спокойнее.
Вхожу в кабинет и вижу: на диване у окна сидит и сверкает торжествующим взором Арустамян и будто бы даже улыбается: ага, дескать, попался субчик! Теперь-то уж не отвертишься!…
За столом на месте Арустамяна сидел большой как медведь полковник в новенькой форме со сверкающими золотом погонами, на которых нахально и угрожающе, точно глаза хищного зверя, светятся звезды. Этот смотрит на меня откровенно враждебно и даже брезгливо, точно я раздавленная лягушка.
Рядом с ним сбоку стола сидит майор Шапиркин, – он наш, дивизионный, вроде бы начальник СМЕРШа. Это такая служба по борьбе со шпионами и всякими врагами – Смерть шпионам. Была у нас и на фронте такая служба, и я дважды попадал в ее лапы, но каждый раз меня выручал командир полка. Мне эта служба была ненавистной, и я откровенно ее боялся. Может быть, в следующих главах я расскажу, как и за что я попадал в ее лапы, но здесь я лишь замечу: вид майора Шапиркина обдал меня ледяным ветром.
Голосом громким и по возможности спокойным я доложил Арустамяну:
– Товарищ полковник, капитан Дроздов явился по вашему вызову!
Стоял посредине кабинета, и Арустамян не предложил мне сесть.
– Вы служили в авиации, летали ночью?
– Так точно, товарищ полковник. Летали и днем и ночью.
– В артиллерии вы тоже служили?
– Так точно, служил.
– А за что вам из авиации дали по шее?
– Самолет потерял. Попал в резерв, а из него – в артиллерию.
– Потерять можно кошелек или бумажку моя секретарша теряет, а самолет? Его разве можно потерять?
На откровенно глупые вопросы я решил не отвечать.
Арустамян продолжал:
– Вот полковник из Москвы приехал, – домой приехал, а дома нет. Вы его ночью, как абрек, захватили. И рояль его продали, и диван кожаный – тоже продали. Посуда хрустальная была, много посуды – где она?…
– Я ничего не продавал, а посуда хрустальная в шкафу на кухне стоит. У меня свои тарелки есть, и стаканы тоже.
Чувствовал, как злоба подступила к горлу, – оскорбление бросили в лицо, грязное, гнусное. Почти задыхаясь от злобы, выдохнул:
– Я не вор и не жулик, и вы мне таких обвинений не шейте.
Словцо, оставшееся от моей беспризорной уличной жизни, вырвалось. Подумал: разговаривай вежливо, не теряй самообладания.