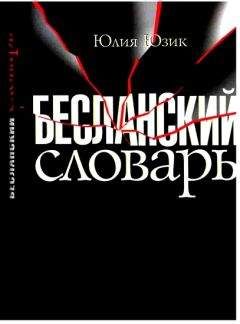…Так ей и придется кричать всю жизнь перед дождем».
Светлана, мать 9-летней Ани
«Я его узнала по пальцам ног. В палату меня не пустили: сквозь стеклянную дверь смотрю, и прямо за ней кровать, белая простыня и голые ступни. Пальчики… Его пальчики… Еще лица даже и не увидела, а уже узнала. Я рыдать стала от счастья. Врач подходит, берет меня под локоток, отводит от двери: еще рано радоваться, он в тяжелом состоянии, жизнь на волоске.
А я все равно плачу. Меня не пустили к нему, приказали домой возвращаться. Выхожу, — на улице ночь, льет дождь. Мокро, душно. Капли по лицу хлещут. А я стою и шелохнуться не могу. Мне сказали, что он в коме, никого не слышит. Он не слышит, но Бог-то слышит! Вот я стала Бога просить о том, чтобы он вернул его мне. Плачу, смеюсь от счастья… Сколько матерей этим вечером нашли детей в морге… Сколько там сгоревших, обугленных косточек. А мой — жив! Под белой простынкой, в стеклянной палате, пальчики одни торчат…
Но жив, жив… Самое главное.
На следующее утро его военным самолетом отправили в Москву. Я какие-то вещи в сумку покидала, за час собралась и — за ним. Далее своего старшего не успела повидать. Он из школы на своих ногах убежал, пара царапин на лице, и все, как будто на улице подрался. Быстро все, наспех, в такой суматохе-то! На следующий день я уже в Москве была, вместе с ним, младшеньким.
Тапочки, халатик, зубная щетка — весь мой багаж. В чем была, в том и уехала.
Думала — ненадолго, а оказалось — на несколько месяцев. Первое время прямо в отделении жила. Там меня к нему и пустили в первый раз… Захожу: тишина, он лежит, глаза закрыты… Бледный, словно выстиранный, одни пальцы из-под простыни выглядывают… И весь восковой какой-то… На лице маска, миллион трубочек, словно вены, по которым кровь бежит. Я на колени перед ним встала… До рук дотронулась, а они ледяные, — как у мертвого. У меня комок в горле. Чувствую: лицо горячим становится. Руку подношу, провожу пальцами: слезы… Сами по себе… Слезы катятся и катятся.
Когда стояла перед ним на коленях в реанимационной палате, в первый раз — верите? — подумала о хрупкости жизни. Вчера он бегал, гонял по улице кота, стрелял из рогатки, а сегодня дышит через маску. Мой мальчик… Словно кто-то выдохнул из него жизнь, забрал все силы, увел душу… Один день, одно мгновение — и все может исчезнуть…
Первый месяц — операция за операцией. Врач заходит в палату, долго его осматривает, потом на свет смотрит рентгеновские снимки, качает головой.
— В черепе большой осколок, пока мы его не вынем, он так и будет в коме. Но его трудно будет достать: рядом жизненно важные сосуды…
Я дежурила у дверей операционной. Час, два… Потом слышу: шорох у дверей, колеса шелестят. У меня сердце чуть не лопнуло: представляю, что двери откроются и вывезут его ногами вперед… Эта секунда, момент… Руки задрожали, ноги подкосились… Секунда… Двери распахиваются, вижу: головой вперед, жив, жив!
Два с половиной часа вынимали осколок. Трепанация черепа. Это не нога, не рука. Головной мозг. Доли миллиметра — и смерть. Или — инвалидность.
Он вынес. Девять лет, обычный мальчишка, а вынес. Для меня эта операция была такой важной! Я так себе сказала: если он перенесет ее, значит, выкарабкается.
Каждый день я около него сидела. Первые дни только плакала. Сяду над ним и причитаю. Вдруг врач в палату заходит.
— Что же вы делаете?! Вы что, хотите его в могилу свести? Он не слышит вас, не видит, но все чувствует.
Вы же мать, ваше состояние ему передается! Так он никогда не выберется.
Боль, отчаяние — это все всегда в душе было. Но при нем я старалась теперь держаться. В церковь иду, свечку зажгу, встану на колени, все глаза выплачу. А к нему захожу, улыбаюсь, рассказываю про дом, про отца, про брата.
Страшно было… Очень страшно… Говорю с ним, за руку держу, — а у него ничего не откликнется. Ну, думаю, хоть бы веко дрогнуло, хоть одна мышца на лице… Ничего! Я ему ножки целовала… Встану перед ним на колени и целую их, дышу, дыханием своим согреваю… Он холодный такой был, вы себе представить не можете. Дышу-дышу, а согреть не могу…
Врач утром заходит в палату.
— Как вы, держитесь?
— А что еще мне остается? — отвечаю.
— Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии, мы надеемся, делаем все возможное, главное — чтобы у него хватило сил бороться.
Он говорит, а у меня перед глазами все расплывается: «Состояние стабильно тяжелое… Восьмой день комы… Отек головного мозга… Перелом основания черепа… Может потерять память, зрение…» И что-то еще, только голос его куда-то уплыл, далеко-далеко… Откуда-то издалека крики врачей, шум и — тишина.
Каждый дёнь я жила, как последний. Смотрю на него и насмотреться не могу. Слезы душат. Как я его на руки первый раз взяла… В макушку целовала… Запах такой нежный, сладкий, родной… Вся жизнь перед глазами промоталась, как пленка в кино… А он лежит передо мною — кожа да кости, весь какой-то пожелтевший, окаменевший… Одной ногой на этом свете, другой — уже на том.
Смотрю на него, вглядываюсь, пытаюсь представить, что он сейчас видит. Снится ли ему что-то? Слышит ли он меня? Или он сейчас слышит совсем другие голоса и видит совсем другие, нездешние лица…
Для меня время перестало существовать. Я не слышала, как тикают часы. Только капельница. Днем и ночью: кап-кап, кап-кап… Мое время…
Сорок дней он был в коме. Врачи уже перестали надеяться. Меня стали потихоньку готовить: если он и выживет, то останется инвалидом… Чего ждать? Он мог перестать говорить. Мог перестать видеть. Мог… Об этом я даже думать боялась… Навсегда остаться по разуму девятилетним ребенком.
Утро… Начало октября: в Москве так холодно уже было. Дождь, пронизывающий ветер. Ни одного листочка не осталось на дереве! Что за город такой холодный, как в нем люди живут? Я из церкви возвращалась, продрогшая до костей. Пришла, переоделась, захожу в палату. Во мне уже надежда тлеть переставала. Вместо надежды пришла обреченность… Грусть… Тоска… Встала возле окна, смотрю на улицу… Ветер воет, перед стеклом черная ветка покачивается… Взад-вперед, взад-вперед… Одиночество… Думаю: вот так и ты теперь будешь одна от ветра гнуться…
Сажусь рядышком. Беру его руку в свою, дышу на нее: все согреть пытаюсь.
— Уже осень пришла. На улице так холодно, ветер воет, дождь идет… Дома тебя папка ждет, брат… Звонили вчера, спрашивали, как ты… Я говорю: скоро поправится, скоро все закончится, и мы вернемся домой…
Говорю, а слезы капают на белую простыню. Кап-кап, кап-кап… И капельница: кап-кап… Мои часы…
Вдруг смотрю: веки у него задрожали! Подрагивают, глазные яблоки — туда-сюда… За руку его хватаю: «Ты слышишь меня?! Слышишь? Если да, мигни мне!»
Раз, — и тут же все прекратилось. Он опять замер. Я рыдаю, уже не могу себя в руки взять, все, прорвало мою плотину. Наде ада, как луч солнца, блеснула и погасла.
Если бы я могла описать то, что в душе случилось тогда! Дали и отняли надежду. Так жестоко! Плачу, причитаю, и вдруг — раз! — он моргает! Глаза закрыты, он все-таки не смог их открыть. Но и так видно: веко дрогнуло, глаза едва распахнулись, и ресницы упали вниз.
Сорок дней минуло с третьего сентября. В Беслане отмечали сороковины, там выросло целое кладбище детей. А мой в этот день пришел в себя. Вернулся! Самый счастливый день моей жизни!
Когда он открыл глаза, он меня почти не видел. Говорил потом:
— Видел тебя, словно за стеклом, по которому дождь стекает.
Он терял зрение. На пятый день он попытался заговорить. Рот открывает, а слов нет. Только воздух ловит. Язык его не слушался, губы не слушались. Первое, что он произнес: «ба». На второй день уже чуть уверенней: «ба… — пауза, — …ам». Я не могла понять, чего он хочет? Что за «ба»? А потом по телевизору показывают рекламу какого-то печенья… крупным планом: зерна, молоко, банан… у него маленький телевизор на тумбочке недалеко от кровати стоял… И вот показывают это печенье, и он вдруг, как младенец, замычал — взглядом на экран и опять шепотом: «ба… ба… ам». Смотрю на экран: а там как раз спелый желтый банан. Поворачиваюсь к нему: а взгляд такой умоляющий! Так вот оно что! Купила ему связку бананов: почищу, кусочек мякоти в рот… Он жмурился от удовольствия… Это его первая еда была… До этого только капельницы, капельницы…
Сказать ничего не мог. Попросить. Только слоги или отдельные звуки. Логопед с ним начал заниматься. Он заново всему учился: говорить, держать ложку… Но лежал… Все время лежал.
В конце октября ему сделали еще одну операцию — уже на глазах. Операция, наркоз, повязки на глазах… Через все мы прошли… Все пережили.
Помню, как он в первый раз резко сел, и тут же его вырвало. Судно ему купила, самое лучшее, дорогое: мягкое такое, импортное. Вставать ему пока запретили, в туалет — только в судно. Называл его: «моя лодка»…