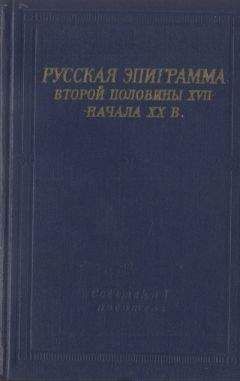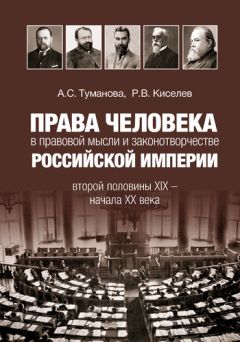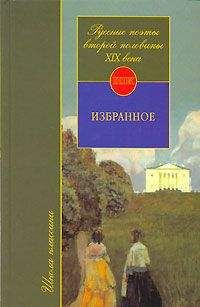мне турецкого кофе…» (А. Вознесенский-2 // Комсомольская правда. 30 января. С. 3). Или – малознакомыми:
«В 1992 году “НГ” пригласила Иосифа Александровича на свой праздник. Бродский отказался. Сказал – боится, что не выдержит сердце» (Г. Заславский, И. Зотов // Независимая газета. 30 января. С. 1); «Я слышал его два раза. Он выл свои стихи в пространство, не обращая на нас внимания» (А. Аронов // Московский комсомолец. 30 января. С. 1); «Ознакомившись с составом подборки переводов из Стрэнда – моих и американской переводчицы <…>, Бродский согласился написать предисловие к грядущей публикации этих переводов в журнале “Иностранная литература”. Мне больно думать, что эта статья, быть может, последняя лежала на его рабочем столе. Кто знает, вдруг удастся восстановить текст по черновикам» (А. Кудрявицкий // Труд. 3 февраля. С. 5). Или даже – незнакомыми вовсе:
«Русский снег за промерзшим московским окном. Навалило за сутки больше, наверное, чем в северном Питере – любимом городе Иосифа» (С. Скопнов // Московская правда. 30 января. С. 2); именование Бродского «Иосифом» без фамилии и отчества (ср. «Марина» Цветаева, но никогда, например, – «Федор» Тютчев) – встречается во многих некрологических откликах на смерть поэта.
V. На правах утонченных ценителей поэзии Бродского авторы ряда некрологов позволили себе мягко– или жестко-скептическую усмешку – разумеется, не в отношении Бродского, но в отношении его остальных (прежде всего – власть имущих) недалеких читателей: «…по крайней мере, по словам близких, вдова поэта, Мария, несмотря на настойчивые предложения мэра С-Петербурга, Анатолия Собчака о предоставлении права поэту “похоронных почестей” его родному городу [так! – О. Л.], склоняется к одному из альтернативных вариантов» (Ю. Горячева // Независимая газета. 30 января. С. 1). Целиком на подобного типа укоризнах держится отклик на смерть Бродского, написанный М. Ю. Соколовым: «Поэтому вряд ли стоит с такой буквальностью повторять слова поэта про… Перед лицом вечности тем более не нужно говорить неуместные пошлости о… Раздавшиеся немедленно после известий о смерти Бродского разговоры о необходимости торжественно перенести прах поэта на родину тем более неэстетичны, ибо…» (Коммерсантъ-DAILY. 30 января. С. 13).
VI. Подводя общие итоги, попробуем в заключение наметить основные пункты типовой статьи памяти Иосифа Бродского в московской газете: Бродский гениальный поэт – он ученик Ахматовой – он был сослан – он был выслан – он получил Нобелевскую премию – Бродский как Пушкин – он солнце русской поэзии – а я его знал (несколько раз видел, видел по телевизору, видел его фотографию) – и лучше понимаю его, чем все остальные обыватели.
Олег Григорьев и ОБЭРИУ: к постановке проблемы
1. Стремясь к прекрасной ясности в непростом вопросе об адекватном расположении текстов в посмертных изданиях Даниила Хармса, авторитетные интерпретаторы хармсовского творчества категорически утверждают, что «его детские произведения составляют особую область, имеющую очень малое отношение к тому, что мы называем “Хармс”» [100]. Чуть более развернутая констатация от тех же исследователей (М. Мейлаха и А. Кобринского): «…писавшиеся для заработка детские произведения имеют мало отношения к тому, что он считал делом своей жизни и чем занимался без всяких надежд на публикацию» [101].
Но и те исследователи, которые вроде бы придерживаются иной точки зрения, стремясь «реабилитировать» детские вещи Хармса, как правило, считают необходимым указать на их заведомую, априорную неполноценность. Выразительный пример – относительно недавняя заметка А. Г. Герасимовой «Как сделан “Врун” Хармса», где дотошно выявляются многочисленные связи этого детского хармсовского стихотворения «с его “взрослым” творчеством». Однако напрашивающийся вывод об органическом единстве детских и взрослых стихов Хармса заранее дискредитирован и сведен на нет упреждающей этикетной оговоркой автора статьи: хотя в середине 1930-х годов «Хармс был уже опытным детским писателем», он «не мог вполне серьезно воспринимать себя в этом качестве» [102].
Но ведь ничто не мешает кардинально сместить оптику и увидеть не в детских вещах Хармса халтурный довесок к его взрослым шедеврам вроде «Случаев» и «Старухи», а почти ровно наоборот: во взрослых – лабораторное, экспериментальное поле для взращивания детских шедевров вроде «Вруна» и «Иван Иваныча Самовара». Очевидным образом, аргумент «а вот сам Хармс» считаться решающим не должен: отношение писателя к своим произведениям – существенный факт биографии писателя, но не биографии его произведений.
Еще более усложняет, но и упрощает ситуацию то, что Даниила Хармса, как никакого другого литератора его эпохи, можно было бы назвать писателем-дилетантом, если бы только удалось целиком отрешиться от «обидных» коннотаций этой характеристики. Под дилетантом в данном случае подразу мевается не такой автор, который пишет плохо, а такой, который ощущает равноправными, то есть – равно значимыми, все написанные им на бумаге слова, не «опускаясь» до оценочных различий между текстами хорошими и плохими, дневниковыми и художественными и – что важно для нас сейчас – взрослыми и детскими…
Программный дилетантизм Хармса заставляет не на шутку усомниться даже не в каких-то отдельных пунктах заботливо выстроенной исследователями системы хармсовских приоритетов, а в самом существовании подобной системы.
Все сказанное отнюдь не означает, что между детскими и большинством взрослых текстов Хармса нет никакой разницы. Разница, разумеется, есть, но она не укладывается в оценочное противопоставление «хорошо»/«плохо» или «подлинник»/«эрзац».
Спровоцирована эта разница была чрезвычайно важным как раз для литератора-любителя обстоятельством: свои детские вещи Хармс делал на заказ, вынужденно отступая кое в чем от собственных творческих принципов. В работе над заказными произведениями Хармс-дилетант боролся с Хармсом – профессионалом высокого класса, хорошо понимающим, что далеко не каждый текст может быть допущен в печать.
Это, во-первых, освобождало заказные вещи Хармса от табуированных для ребенка и, в частности, для советского ребенка тем и мотивов (эротика, насилие); во-вторых, требовало решительного пересмотра едва ли не доминирующей творческой установки Хармса: существование любого текста оправдывает уже самый процесс его написания, а вопрос литературного качества вторичен.
2. Переходя от этого несколько затянувшего вступления к разговору о стихах Олега Григорьева (1943–1992), отметим, прежде всего, сознательную григорьевкую ориентацию на поэтику ОБЭРИУ, главным образом – в лице Даниила Хармса, многократно обозначенную, но ни разу толком не отрефлектированную исследователями.
Проза Григорьева, как нам кажется, опирается на иные образцы, в первую очередь – на некоторые нарочито примитивные вещи Михаила Кузмина. Ср., например, григорьевскую миниатюру «Летний день (Рассказ детеныша)» с кузминской «Печкой в бане». Григорьев:
Наступил Ленька на шнурок и – шлеп животом, как лягушка. Поднялся, а тут ему на лямку встали, и опять на полу лягушачий шлеп послышался. А на нем уже Юрка-злодей сидит. Потянул его за рот – чуть губа не оторвалась, потому что мягкая (245) [103];
Кузмин: