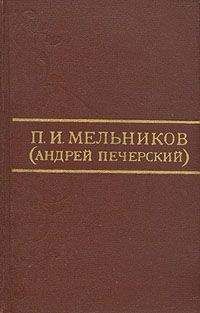Еще сильнее были укоры со стороны беспоповщинских раскольников, например, Ивана Алексеева в «Истории бегствующего священства». Многие самые горячие приверженцы Епифания и поставленных от него попов стыдились через некоторое время сознаваться, что они когда-то принадлежали к согласию епифановщины.
Как падение старого Керженца способствовало возвышению Ветки, так, в свою очередь, падение Ветки было причиною быстрого возвышения слобод Стародубских. Здесь поселилась большая часть выведенных Сытиным из-за литовского рубежа старообрядцев. До того в Стародубье мало было попов, и жившие в тамошних лесах старообрядцы так одичали, что более походили на каких-то грубых инородцев, чем на русских людей. Грамотных у них вовсе почти не было, и кто с трудом и запинаясь на каждом слове умел читать «Часослов», тот считался уже великим богословом. Старики правили службу только по «Часослову» и «Псалтыри», других книг и знать никто не хотел. Так, когда однажды в слободу Злынку привез один старообрядец из Москвы старопечатный «Октоих» и велел читать по нем канон, то едва успели сказать начальные слова первой песни: «Колесницегонителя Фараона погрузи», поднялся страшный шум. «Что это за книга? — кричали злынковские старообрядцы, — зачем она здесь? Что в ней за колеса да фараон? Это по новой вере! Это книга никонианская, еретическая. В печь ее, да сжечь!» Когда же поселились здесь ветковские раскольники, жизнь в Стародубье изменилась: явились промышленность и торговля, завелись вскоре и фабрики. В Клинцах особенно развилась фабрикация сукон. Начались деятельные сношения с Москвой и Петербургом, явились значительные капиталы. Построение церквей и появление попов в достаточном количестве придали большой блеск Стародубью, и оно сделалось средоточием всей рассеянной по Руси и по зарубежным местам поповщины. Неблагосклонно смотрели, однако, коренные стародубляне. Когда зарубежные выходцы стали у них в слободах ставить церкви, они возроптали и произвели мятеж. «Зачем нам церкви? — говорили они. — Наши отцы от церкви из России ушли; у нас церквей слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне церкви и в наших местах строят», — и чуть не сожгли их. Когда в новопостроенных церквах начали служить обедню, большой ропот опять поднялся от коренных жителей Стародубья.
— Что это за поп? — говорили они. — Сам причастье работает! Разве это можно? У нас было причастье старое, а это все новая вера!
Спустя несколько лет смягчились немного нравы стародубских дикарей, и они мало-помалу слились с зарубежными пришельцами в одни общины. Упорных осталось немного. Но в некоторых слободах[105] все-таки никак не могли решиться на постройку церквей, довольствуясь часовнями, хотя и имели в свое время полную возможность и достаточно средств к устройству церквей.
В слободе Зыбкой (ныне уездный город Новозыбков, Черниговской губернии) была в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия часовня дьяконовщины, на месте которой, не ранее 1771 года, построена была церковь Рождества Христова. При ней с 1739 года был беглый поп Патрикий, ревностный последователь дьякона Александра, казненного в 1720 году, в Нижнем Новгороде, на Нижнем базаре. Патрикий был человек хитрый, умный, начитанный и честолюбивый. Он приобрел огромное влияние на старообрядцев дьяконовского согласия, как в России, так и за границей. Высокий ростом, с белыми волосами, с бородой едва не до колен, сановитый, с важною поступью, он внушал к себе чрезвычайное уважение. Жизни был строгой, подвижнической и самых честных правил. Его называли даже «патриархом». И во всем «дьяконовом согласии» он действительно был верховным правителем духовных дел: назначал попов, судил их и мирян, рассылал у вещательные и обличительные послания. Словом, Патрикий стоял во главе сильной еще тогда дьяконовщины.
Тревожила нередко и Патрикия мысль, не оставлявшая издавна старообрядцев. «Ведь только та церковь свята и истинна, — думал он, — где преемственно сохраняются все три чина духовной иерархии; а где у нас епископы?»
В 1749 году явился в Зыбкую молодой монах, по говору великорусс, человек пылкого характера, острого ума, отлично знавший церковные уставы, красноречивый, ученый, знавший даже по-латыни, говоривший по-французски и по-польски. Наружность его была чрезвычайно красива: высокого роста, дородный, с бледным лицом, с блестящими умными глазами, с черными, как смоль, волосами и с такою же широкою, длинною, окладистою бородой. Голос у него был светлый и громкий, держал он себя сановито и имел самые изящные манеры, доказывавшие, что он, если не постоянно, то весьма часто обращался в хорошем обществе. Молодой чернец говорил, что происходит он из дворянской фамилии, какой — мы не знаем. И это было верно, что он хорошего роду. Платье на этом чернеце-дворянине было обыкновенное монашеское, старообрядческое, но камилавка и кафтырь как-то особенно ловко сидели на нем. На кафтыре и на келейной мантии, которую старообрядческие монахи и монахини носят как пелеринку, обычная красная оторочка вроде кантика выложена была из яркого кармазинного сукна, бросавшегося издали в глаза. Все было на чернеце так чисто, так опрятно, так щеголевато. Называл он себя священноиноком (то есть иеромонахом) Афиногеном, говоря, что, познав истину «древляго благочестия», презрел он почести и славу и пошел, бога ради, странствовать, изыскивая хорошего места между ревнителями старого обряда, где бы мог проводить до конца дней своих тихое и безмятежное житие.
В Зыбкой приняли нового пришельца. Там всякого принимали. С первых же дней заметил Афиноген, что зыбковские слобожане имеют слепую веру к Патрикию. Что Патрикий скажет, то и закон для всех. И стал он употреблять все средства, чтобы понравиться стародубскому «патриарху». Старику Патрикию крепко по душе пришелся красивый, скромный, ученый молодой чернец, он полюбил его, как сына, и даже поместил у себя в доме, проводя с ним все время в разумных и учительных беседах. Афиноген совершенно очаровал Патрикия своим бойким умом и обширными сведениями, а вместе с тем необыкновенной набожностью и подвижничеством.
Патрикий нахвалиться не мог своим нареченным сынком. «Его сам бог ровно с небес послал к нам», — говаривал он и прочил Афиногена себе в преемники. И быстро разнеслась добрая слава об Афиногене по всему Стародубью и во вновь возникших на пепле разоренных Сытиным слободах Ветковских. Однажды в задушевной беседе Патрикий высказал сынку своему тяготившую его мысль о необходимости иметь правильного епископа. Молодой чернец совершенно соглашался с Патрикием, но с какою-то таинственностью постоянно уклонялся от дальнейших разговоров.
Еще казалось странным Патрикию, что, несмотря на доброе и спокойное житье в Зыбкой, под крылышком самого Патрикия, Афиногена все тянуло за границу. Таинственно намекал он, что у него в Петербурге есть сильные враги, власть имеющие, которые никак не простят того, что он познал «древлее благочестие» и ушел странствовать, что они опасаются, чтоб Афиноген не рассказал кое-чего ему известного, а от этого-де пойдет по государству великая крамола, и многим сильным людям не сносить тогда головы. Хитро намекал Афиноген и на то, что вот недавно по милости Епифания разорили Ветку и все зарубежные слободы, а если про него в Петербурге узнают, где он находится, — во всем Стародубье камня на камне не останется. «А я не желаю, чтоб из-за меня грешного пострадали православные христиане, свято хранящие древние уставы».
— Но кто же такой? Какие у тебя обстоятельства были с сильными мира сего? — спрашивал у Афиногена Патрикий.
— Честный отче! — отвечал чернец, — ты видел мои бумаги, знаешь, что я не кто другой, как грешный священник Афиноген. Не искушай меня более. Мое со мной и останется.
И заводил Афиноген речь о том, как при бывших недавно переменах в правлении лица, стоявшие на самых высоких степенях, падали и в Сибирь отсылаемы были на вечное житье, что сам бывший император Иван Антонович и мать его, бывшая правительница государства, томятся в безвестном заключении.
— А если бы, — говорил он, — Анна Карловна[106] с божьею помощью возвратилась и сел бы на престоле царь Иван Антонович, процвело бы тогда «древлее благочестие» так же, как и при царе Михаиле Феодоровиче, потому что и Анна Карловна и царь Иван Антонович, в несчастии находясь, истинную веру познали.
Патрикий, в свою очередь, уклонялся от подобных разговоров. В то время за подобные слова угрожала тайная канцелярия, кнут, и если не смертная казнь, то уже наверное сибирские рудники или неисходное житье в каком-нибудь Рогервике или Шлиссельбурге.
Приехал в Зыбкую зарубежный старообрядец, по имени Марко, и привез от жителей главной побужской слободы, Борской, просительную грамоту на Ветку, в которой они умоляли тамошних отцов, «на утешение духовных печалей, яко народ жаждет священника», для исправления духовных треб прислать достойного иерея. Побужский посланец на Ветке, едва возникшей после разгрома 1735 года, нашел «великое оскудение священства». Оттуда некого было послать на Буг: тамошние отцы сами просили у стародублян попа своего согласия. Марко поехал далее, перебрался через границу и прибыл в Стародубье. Зная, что у Патрикия много было старого причастия, Марко обратился к нему, прося его приехать на время в Борскую слободу или же прислать кого-либо за себя с достаточным запасом причастия. Честолюбивому Патрикию было очень лестно такое приглашение, но самому нельзя было предпринять дальнюю поездку: и преклонность лет и необходимость пребывания в Стародубье, где кипели тогда раздоры между старообрядцами, препятствовали его поездке, да стародубляне с его согласия, пожалуй, и не пустили бы его. Он придумал послать вместо себя любимого сынка своего. Когда он сказал о таком намерении Афиногену, тот смиренно отвечал, что чувствует себя недостойным идти на такой великий, апостольский подвиг, но готов творить волю пославшего.