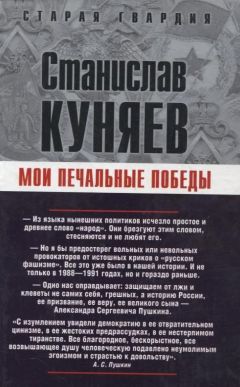Думаю, что “мировое сообщество” хочет то же самое проделать и с нами, с утра до ночи вдалбливая в наши головы рассуждения о “парадигме несвободы”, о порочности русской истории, о “рабстве и тоталитаризме”, о Сталине…
Да, мы проиграли историческое противостояние миру Запада, но в нашей воле ни на шаг не отступить на поле метафизической битвы. Если мы сдадим в своем сознании советскую эпоху и позволим приравнять её к “Третьему рейху”, а Сталина к Гитлеру, то нам придется до Страшного суда жить, как нынешним немцам, в духовно оскопленном состоянии. Как они стесняются вспоминать о Вагнере и Ницше только потому, что их имена были почитаемы при Гитлере, так и нам придется опускать глаза при разговорах о Горьком и Шолохове, о Есенине и Твардовском. А коготок увяз — всей птичке пропасть: придется сдать и Циолковского с Королевым, и Жукова с Гагариным, словом, одного за другим всех строителей советской цивилизации... У немцев есть хоть некоторое утешение — они “опущенные”, но богатые, а мы будем и “опущенными”, и бедными.
* * *
Время от времени на улочках Марбурга появлялись персонажи из прошлого — состарившиеся битники с лысинами и космами нечесаных волос на затылках, худосочные, голенастые, в шортах и стоптанных кроссовках, с потрепанными рюкзаками за спиной… Их подружки — бывшие девочки 60—70-х годов — похожи на состарившихся сморщенных обезьянок, обмотанных разноцветными тряпками… Они еще пытаются из последних сил продлить образ жизни, столь милый их сердцу: курят марихуану, пьют пиво, жуют хот-доги, но безжалостное время уже превратило их некогда нежные руки и стопы ног в коричневые конечности, разукрашенные темными венами, волосы поредели, глаза глубоко провалились в темные глазницы…
Бунтари и ниспровергатели буржуазных нравов минувшей эпохи, превратившиеся к старости в среднеевропейских бомжей, о таких в России говорят: ни Богу свечка, ни черту кочерга. Я вижусь с ними каждое утро, когда надеваю кроссовки и бегу вдоль мутно-зеленого Ланна, утопающего в зарослях одичавших вишен, пробегаю под бетонными пролетами мостов, где спят бездомные дети Европы. Они выползают из своих спальников, пекут на костерках картошку, обнимаются, скорее не ради секса, а просто держась друг за друга, чтобы не упасть. Одинокий пожилой человек, бегущий медленной трусцой вдоль реки по асфальтовой дорожке, вызывает у них некоторое любопытство, и они, приветствуя меня со своих лежбищ, выкрикивают что-то немецкое, добродушное.
Иногда я замечаю какие-то листовки, наклеенные на заборах, останавливаюсь возле них, пытаюсь прочесть, понимаю, что речь идет о преимуществах социализма над капитализмом… Авторы листовок вспоминают о Розе Люксембург, цитируют какие-то её слова… Эх, Роза, Роза, плохи наши дела и в России, и в Германии… Всюду, куда ни плюнь, попадешь либо в бомжа — российского и европейского, либо в политкорректность и толерантность. Скука для таких, как мы с тобой, — смертная!
Но, отказавшись от истории, немцы берут реванш, создавая в бытовой жизни всяческие немыслимые усовершенствования и удобства.
Марбургские горожане настолько постарались обустроить свою жизнь, что даже в той части города, которая стоит на вершине холма, пробурили шахту и устроили в ней лифт, чтобы не подниматься по крутым улочкам в гору. Устроили этакое вертикальное метро — садишься на станции у основания горы и возносишься к вершине на полторы сотни метров.
На стенах туалетов в кафе и кондитерских всяческие приятные изображения: глянцевые фотографии тортов, пирожных, фруктовых горок, даже — пасхи. Писсуары пахнут корицей, лимоном, яблоком. В этом желании подменить действительность, замаскировать запахи, скрыть сущность чего-то неприятного, неблагопристойного заключено некое извращение, нежелание видеть действительность такой, какая она есть. Когда-то Гегель сказал: “Разумно то, что действительно”. Нынешние немцы не соглашаются с ним, стараясь сделать “толерантной” не только свою историю, но и обычные отхожие места. Впрочем, эта национальная особенность у немцев наблюдалась даже в обустройстве концлагерей с их порядком-орднунгом, бюрократическим расписанием жизни и смерти, с лицемерными плакатами о том, что “труд делает человека свободным”.
На прощальный обед, который перед отъездом из Марбурга дала в нашу честь фрау Урфф, пришли журналист из городской газеты, какой-то бывший знаменитый спортсмен, университетский профессор, две-три активистки из литературного общества и переводчик Вилли.
— Сегодня, — сказала сказочная фрау Урфф, — у нас на обед будут блюда старой германской кухни!
Я оживился: еще бы, отведать пищу Нибелунгов и обитателей Валгаллы!
На закуску был салат из свежей капусты и красного перца, ничем не сдобренный, поскольку майонеза и кетчупа в легендарные времена не было. На первое фрау Урфф подала весьма безвкусный суп, в котором плавали яичные волокна. Увидев на моем лице некоторое разочарование, активистка, сидевшая рядом, шепнула:
— Он на мясном бульоне!
Но зато на второе… Фрау Урфф в сопровождении двух подруг внесла в гостиную громадное блюдо, на котором высился холм, исходивший паром.
— Капустная голова! — воскликнула фрау и поставила поднос в центр дубового стола.
Капустная голова оказалась исполинским голубцом, который плавал в мясном отваре, издавая древнегерманские ароматы. Я за свое неумеренное любопытство к немецким национальным ценностям тут же был наказан: фрау схватила громадный нож, отрезала килограмма полтора капустной головы и водрузила на тарелку саксонского фарфора… Мой лепет насчет того, что “чересчур много”, был сразу подавлен, и мне не оставалось ничего другого, как под вдохновенные тосты гостей, прихлебывая хорошо знакомый “Киршен вассер”, отчаянно бороться с капустной головой. Но то ли от напитка, то ли от этих стараний я вскоре оживился и попросил слова, забыв про толерантность и политкорректность. А может быть, просто захотелось сказать нечто значительное и похвалить немцев, чтобы они больше уважали себя.
— Друзья, — сказал я, обращаясь к цвету марбургской интеллигенции. — Глядя на наш стол, я понял, почему Германия дважды побеждала Францию — в 1870 году при Бисмарке и в 1940-м (ума хватило не уточнять, при ком это произошло). Ведь французы всемирно известные гурманы, и громадную долю ума и национального гения они тратят на изобретение изысканных блюд — из улиток, устриц, лягушек, певчих птичек, — соусов и подливок, а у немцев кухня очень здоровая и простая, потому у них всегда оставались силы для более крупных забот — о государственном устройстве, философии, укреплении армии, необходимых войнах… — И тут я осекся, кожей почувствовал, как за столом после каждой моей фразы, дословно переведенной честным Вилли, усиливается какое-то напряжение. “Господи! — мелькнуло у меня в голове, — зачем же я о войнах, надо закругляться и как-то исправить положение, вернуться к тому, с чего начал — к разговору о еде…”. Но вишневая водка сыграла-таки со мной злую шутку, и я в завершение неожиданно для самого себя произнес: — Я хочу поднять этот бокал за немецкий здоровый образ жизни, за могучую простоту немецкой кухни. — И тут, как будто не я, а какой-то чертик, во мне сидевший, добавил последнюю роковую фразу: — А у нас, у русских, еда еще проще!
Потом я понял, что это была моя стихийная месть немцам за то, что они забыли, что такое 22 июня…
Гробовое молчание, воцарившееся после моих слов, длилось несколько секунд, и положение спасла та же фрау Урфф, сказав, что на десерт будет мороженое. Все облегченно вздохнули. А мороженое оказалось скверным — сделанным, как мне показалось, из совершенно обезжиренного, снятого молока. Белая хрустящая ледышка, и ничего более…
На другое утро мы попрощались с милым городом Марбургом и переехали на поезде из Южной Германии в Пруссию, в Потсдам. Всего за несколько часов... Игрушечная страна.
II
Не счесть в наше время самых разнообразных проектов, направленных на создание так называемого “демократического образа мыслей”, “рыночного менталитета”, “наднационального сознания”. Тут и книжные ярмарки, и международные премии, и бесконечные встречи “в рамках” различных форумов, фондов, диалогов в галстуках и без. Машина по созданию нового упрощенного человека, щедро смазываемая громадными правительственными и частными деньгами, крутится во всю мощь в самых различных уголках земного шара.
После недельного пребывания в Марбурге мы переехали в Потсдам, на так называемый Германо-российский форум. В бумагах, полученных мною, форум описывался подробно:
“Всего лишь за несколько лет “Потсдамские встречи” превратились в прочный элемент многообразной системы германо-российских отношений. Ту роль, которую “Петербургский диалог” играет для обмена между гражданскими обществами наших стран, “Потсдамские встречи” играют для большого, многогранного мира культуры”. Не слабо сказано…